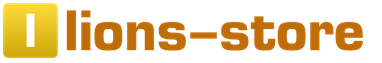«Записки мертвого человека» — казанский рок, вдохновленный карате. Книга записки из мертвого дома читать онлайн I
Федор Михайлович Достоевский
Записки из мертвого дома
Часть первая
Введение
В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами – одной в городе, другой на кладбище, – города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, – или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.
В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльно-каторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивая каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, – одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.
Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею – как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?
Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее; чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибрать в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.
«Записки из Мертвого дома» можно по праву назвать книгой века. Если бы Достоевский оставил после себя лишь одни «Записки из Мертвого дома», он и тогда вошел бы в историю русской и мировой литературы как ее оригинальная знаменитость. Не случайно критики присвоили ему, еще прижизненно, метонимическое «второе имя» — «автор "Записок из Мертвого дома"» и употребляли его вместо фамилии писателя. Эта книга книг Достоевского вызвала, как он точно предвосхитил еще в 1859 г., т.е. в начале работы над нею, интерес «наикапитальнейший» и стала сенсационным литературно-общественным событием эпохи.
Читателя потрясли картины из неведомого дотоле мира сибирской «военной каторги» (военная была тяжелее гражданской), честно и мужественно выписанные рукою ее узника — мастера психологической прозы. «Записки из Мертвого дома» произвели сильное (правда, не одинаковое) впечатление на А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. К триумфальной, но за давностью лет как бы уже подзабытой славе автора «Бедных людей» могучим освежающим дополнением добавилась слава новоявленная — великомученика и Данте Мертвого дома одновременно. Книга не только восстановила, но подняла на новую высоту писательскую и гражданскую популярность Достоевского.
Однако идиллическим бытие «Записок из Мертвого дома» в русской литературе не назовешь. К ним тупо и нелепо придиралась цензура. Их «смешанная» газетно-журнальная первопубликация (еженедельник «Русский мир» и журнал «Время») растянулась более чем на два года. Восторженный читательский прием не означал понимания, на которое рассчитывал Достоевский. Как огорчительные расценил он итоги литературно-критических оценок своей книги: «В критике "3<аписки> из Мерт<вого> Дома" значат, что Достоевский обличил остроги, но теперь оно устарело. Так говорили в книжн<ых> магази<нах>, предлагая другое, ближайшее обличение острогов» (Записные тетради 1876—1877 гг.). Критика принижала значение и теряла смысл «Записок из Мертвого дома». Подобные однобокие и конъюнктурные подходы к «Запискам из Мертвого дома» лишь как к «обличению» пенитенциарно-каторжной системы и — фигурально и символически — вообще «дома Романовых» (оценка В.И. Ленина), института государственной власти полностью не преодолены и до сих пор. Писатель между тем не ставил в центр внимания «обличительных» целей, и они не вышли за пределы имманентной литературно-художественной необходимости. Оттого политически ангажированные истолкования книги в существе бесплодны. Как и всегда, Достоевский здесь в качестве сердцеведа погружен в стихию личности современного человека, разрабатывает свое понятие о характерологических мотивах поведения людей в условиях крайнего социального зла и насилия.
Произошедшая в 1849 г. катастрофа имела для петрашевца Достоевского тяжелейшие последствия. Видный знаток и историк царской тюрьмы М.Н. Гернет жутко, но не сгущая краски, комментирует пребывание Достоевского в омском остроге: «Надо поражаться, как не погиб здесь писатель» (Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 2. С. 232). Однако Достоевский сполна воспользовался уникальной возможностью постигнуть вблизи и изнутри, во всех недоступных на воле подробностях, стесненную адскими обстоятельствами жизнь простонародья и заложить основы собственного писательского народознания. «Вы недостойны говорить о народе, — вы в нем ничего не понимаете. Вы не жили с ним, а я с ним жил», — писал он своим оппонентам четверть века спустя (Записные тетради 1875—1876 гг.). «Записки из Мертвого дома» — достойная народа (народов) России книга, целиком основанная на тяжком личном опыте писателя.
Творческая история «Записок из Мертвого дома» начинается с потаенных записей в «мою тетрадку каторжн<ую>», которую Достоевский, нарушая установления закона, вел в омском остроге; с семипалатинских набросков «из воспоминаний <...> пребывания в каторге» (письмо А.Н. Майкову от 18 янв. 1856 г.) и писем 1854—1859 гг. (М.М. и А.М. Достоевским, А.Н. Майкову, Н.Д. Фонвизиной и др.), а также с устных рассказов в кругу близких ему людей. Книга вынашивалась и создавалась много лет и по продолжительности отданного ей творческого времени превзошла . Отсюда, в частности, ее необычайная для Достоевского по тщательности жанрово-стилистическая отделка (ни тени от стилистики «Бедных людей» или ), изящная простота повествования сплошь — пик и совершенство формы.
Проблема определения жанра «Записок из Мертвого дома» озадачивала исследователей. В наборе предлагавшихся к «Запискам...» определений едва ли не все виды литературной прозы: мемуары, книга, роман, очерк, исследование... И все-таки ни один не сходится в совокупности признаков с оригиналом. В межжанровой пограничности, гибридности и состоит эстетический феномен этого самобытного произведения. Только автору «Записок из Мертвого дома» подвластное сочетание документа и адресности с поэтичностью сложного художественно-психологического письма обусловило чеканное своеобразие книги.
Элементарная позиция воспоминателя была отвергнута Достоевским изначально (см. указание: «Личность моя исчезнет» — в письме брату Михаилу от 9 октября 1859 г.) как неприемлемая по ряду причин. Факт его осуждения к каторжным работам, общеизвестный сам по себе, не представлял запретного в цензурно-политическом смысле сюжета (с воцарением Александра II наметились цензурные послабления). Фигура придуманного , попавшего в острог за убийство жены, тоже не могла никого ввести в заблуждение. В сущности, это была всем понятная маска Достоевского-каторжника. Другими словами, автобиографическое (и тем ценное и подкупающее) в основе повествование об омской каторге и ее обитателях 1850—1854 гг., хотя и осенялось известной оглядкой на цензуру, было написано по законам художественного текста, свободного от самодовлеющего и упертого в бытовую личность воспоминателя мемуарного эмпиризма.
Пока не предложено удовлетворительного объяснения, каким образом писателю удалось достичь гармоничного сопряжения в едином творческом процессе летописания (фактографии) с личной исповедью, познания народа — с самопознанием, аналитизма мысли, философской медитации — с эпичностью изображения, дотошно-микроскопического разбора психологической действительности — с беллетризмом занимательного и сжато-безыскусного, пушкинского по типу рассказывания. Сверх того, «Записки из Мертвого дома» явились энциклопедией сибирской каторги середины позапрошлого столетия. Внешний и внутренний быт ее населения охвачен — при лаконизме рассказа — максимально, с полнотой непревзойденной. Достоевский не оставил без внимания ни одной затеи каторжного сознания. Потрясающими признаны сцены из жизни острога, избранные автором для скрупулезного рассмотрения и неспешного осмысления: «Баня», «Представление», «Госпиталь», «Претензия», «Выход из каторги». Их крупный, панорамный план не заслоняет массы всеохватывающих в своей совокупности частностей и деталей, не менее пронзительных и необходимых по своей идейно-художественной значимости в общем гуманистическом составе произведения (копеечная милостыня, поданная девочкой Горянчикову; раздевание кандальников в бане; цветы арестантского арготического красноречия и т.д.)
Изобразительная философия «Записок из Мертвого дома» доказывает: «реалист в высшем смысле» — как назовет себя Достоевский позднее — не позволял своему гуманнейшему (отнюдь не «жестокому»!) таланту ни на йоту отклоняться от правды жизни, какой бы нелицеприятной и трагической она ни была. Книгой о Мертвом доме он мужественно бросил вызов литературе полуправды о человеке. Горянчиков-повествователь (за которым видимо и осязаемо стоит сам Достоевский), соблюдая чувство меры и такта, заглядывает во все уголки человеческой души, не избегая самых дальних и мрачных. Так попали в его поле зрения не только изуверски-садистские выходки соузников по острогу (Газин, Акулькин муж) и палачей-экзекуторов по должности (поручики Жеребятников, Смекалов). Анатомия безобразного и порочного не знает границ. «Братья по несчастью» крадут и пропивают Библию, рассказывают «о самых неестественных поступках, с самым детски-веселым смехом», пьянствуют и дерутся в святые дни, бредят во сне ножами и «раскольниковскими» топорами, сходят с ума, занимаются мужеложством (скабрезное «товарищество», к которому принадлежат Сироткин и Сушилов), привыкают ко всякого пошиба мерзостям. Одно за другим из частных наблюдений над текущей жизнью каторжного люда следуют обобщающие афористичные суждения-сентенции: «Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение»; «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови»; «Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую» и др. — потом они вольются в художественный философско-антропологический фонд «великого пятикнижия» и «Дневника писателя». Правы ученые, полагающие не «Записки из подполья», а «Записки из Мертвого дома» началом многих начал в поэтике и идеологии Достоевского — романиста и публициста. Именно в этом сочинении истоки главных литературных идейно-тематических и композиционных комплексов и решений Достоевского-художника: преступление и наказание; тираны-сладострастники и их жертвы; свобода и деньги; страдания и любовь; кандальный «необыкновенный народ наш» и дворяне — «железные носы» и «муходавы»; рассказчик-хроникер и описываемые им в духе дневниковой исповедальности люди и события. В «Записках из Мертвого дома» писатель обрел благословение на дальнейший творческий путь.
При всей прозрачности художественно-автобиографических отношений между Достоевским (автор; прототип; мнимый издатель) и Горянчиковым (повествователь; персонаж; мнимый мемуарист) упрощать их нет резона. Тут укрыт и подспудно действует сложный поэтический и психологический механизм. Верно замечено: «Достоевский типизировал свою острожную судьбу» (Захаров). Это позволило ему оставаться в «Записках...» самим собой, безусловным Достоевским, и вместе с тем принципиально, по образцу пушкинского Белкина, не быть им. Преимущество такого творческого «двоемирия» — в свободе художественной мысли, которая исходит, однако, из реально документированных, исторически подтвержденных источников.
Идейно-художественное значение «Записок из Мертвого дома» представляется безмерным, поднятые в них вопросы — неисчислимыми. Это — без преувеличения — своеобразная поэтическая вселенная Достоевского, краткая редакция его полной исповеди о человеке. Здесь неопосредованно подытожен колоссальный духовный опыт гения, четыре года прожившего «в куче» с людьми из народа, разбойниками, убийцами, бродягами, когда в нем, не получая должного творческого выхода, «внутренняя работа кипела», а редкие, от случая к случаю, отрывочные записи в «Сибирской тетради» лишь разжигали страсть к полнокровным литературным занятиям.
Достоевский-Горянчиков мыслит в масштабах всей географически и национально великой России. Возникает парадокс изображения пространства. За тюремной оградой («палями») Мертвого дома пунктирно возникают очертания необъятной державы: Дунай, Таганрог, Стародубье, Чернигов, Полтава, Рига, Петербург, Москва, «подмосковное село», Курск, Дагестан, Кавказ, Пермь, Сибирь, Тюмень, Тобольск, Иртыш, Омск, киргизская «вольная Степь» (в словаре Достоевского это слово пишется с прописной буквы), Усть-Каменогорск, Восточная Сибирь, Нерчинск, Петропавловский порт. Соотвественно для державного мышления образом упоминаются Америка, Чермное (Красное) море, гора Везувий, остров Суматра и, косвенно, — Франция и Германия. Подчеркивается живое соприкосновение рассказчика с Востоком (ориентальные мотивы «Степи», мусульманских стран). Этому созвучна персонажная многоэтничность и многоконфессиональность «Записок...». Арестантскую артель составляют великоруссы (в т.ч. сибиряки), украинцы, поляки, еврей, калмык, татары, «черкесы» — лезгины, чеченец. В рассказе Баклушина обрисованы российско-прибалтийские немцы. Названы и в той либо иной степени действуют в «Записках из Мертвого дома» киргизы (казахи), «мусульмане», чухонка, армянин, турки, цыгане, француз, француженка. В поэтически обусловленном разбросе и сцеплении топосов и этносов — своя, уже «романная» выразительная логика. Не только Мертвый дом — часть России, но и Россия — часть Мертвого дома.
С темой России связана главнейшая духовная коллизия Достоевского-Горянчикова: недоумение и боль перед фактом сословного отчуждения народа от дворянской интеллигенции, лучшей ее части. В главе «Претензия» — ключ к пониманию происшедшей с повествователем-персонажем и автором трагедии. Их попытка солидарно встать на сторону взбунтовавшихся отвергнута с убийственной категоричностью: они — ни под каким видом и никогда — не «товарищи» для своего народа. Выход из каторги разрешал самую мучительную для всех арестантов проблему: де-юре и де-факто было покончено с тюремной неволей. Светла и духоподъемна концовка «Записок из Мертвого дома»: «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!». Но проблема разъединения с народом, не предусмотренная никакими судебниками России, зато пронзившая навек сердце Достоевского («разбойник многому меня научил» — Записная тетрадь 1875—1876 гг.), осталась. Она исподволь — в желании писателя решить ее хотя бы для себя — демократизировала направление творческого развития Достоевского и в конечном результате привела его к своеобразному почвенническому народничеству.
Современный исследователь удачно называет «Записки из Мертвого дома» «книгой о народе» (Туниманов). Русская литература до Достоевского не знала ничего подобного. Центрообразующее положение народной темы в концептуальной основе книги принуждает считаться с ней в первую очередь. «Записки...» свидетельствовали об огромных успехах Достоевского в познании личности народа. Содержание «Записок из Мертвого дома» вовсе не ограничивается тем, что воочию увидел и лично на себе испытал Достоевский-Горянчиков. Другая, не менее значительная половина — то, что пришло в «Записки...» из среды, плотно окружавшей автора-повествователя, устным, «озвученным» путем (и о чем напоминает корпус записей «Сибирской тетради»).
Народные рассказчики, балагуры, острословы, «Разговоры Петровичи» и прочие златоусты сыграли неоценимую «соавторскую» роль в художественном замысле и осуществлении «Записок из Мертвого дома». Без услышанного и напрямую перенятого от них книга — в том виде, как она есть,— не состоялась бы. Арестантские рассказы, или «болтовня» (нейтрализующее цензуру выражение Достоевского-Горянчикова) воссоздают живую — как будто по словарю некоего острожного Владимира Даля — прелесть народно-разговорной речи середины позапрошлого столетия. Шедевр внутри «Записок из Мертвого дома», рассказ «Акулькин муж», какой бы стилизацией мы его ни признавали, основан на бытовой фольклорной прозе самого высокого художественного и психологического достоинства. По сути, эта гениальная интерпретация устного народного рассказа-бывальщины сродни «Сказкам» Пушкина и «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Гоголя. То же самое можно утверждать относительно сказовой романической истории-исповеди Баклушина. Исключительное для книги значение имеют постоянные нарративные ссылки на слухи, толки, молву, побывальщины — крупицы повседневного фольклорного быта. При соотвествующих оговорках «Записки из Мертвого дома» следует считать книгой, в известной мере рассказанной народом, «братьями по несчастью», — настолько велик в ней удельный вес разговорной традиции, преданий, рассказов, сиюминутного живого слова.
Достоевский одним из первых у нас в литературе наметил типы и разновидности народных рассказчиков, привел стилизованные (и усовершенствованные им) образцы их устного творчества. Мертвый дом, который помимо всего прочего был еще и «домом фольклора», научил писателя различать рассказчиков: «реалистов» (Баклушин, Шишков, Сироткин), «комиков» и «скоморохов» (Скуратов), «психологов» и «анекдотчиков» (Шапкин), хлестаковствующих «фатов» (Лучка). Достоевскому-романисту как нельзя более пригодилось аналитическое изучение каторжных «Разговоров Петровичей», пришелся кстати тот лексиконно-характерологический опыт, который был сосредоточен и поэтически обработан в «Записках из Мертвого дома» и в дальнейшем питал его повествовательное мастерство (Хроникер, биограф Карамазовых, писатель в «Дневнике» и др.).
Достоевский-Горянчиков равно внимает своим сокаторжникам — «хорошим» и «плохим», «ближним» и «дальним», «знаменитым» и «заурядным», «живым» и «мертвым». В его «сословной» душе нет враждебных, «барских» или брезгливых чувств к соузнику-простолюдину. Напротив, он обнаруживает христианско-участливое, истинно «товарищеское» и «братское» внимание к народной арестантской массе. Внимание, необыкновенное по своей идейно-психологической заданности и конечным целям — через призму народного объяснить и себя, и человека вообще, и принципы его жизнеустройства. Это было уловлено Ап. А. Григорьевым сразу же после выхода «Записок из Мертвого дома» в свет: их автор, отмечал критик, «достиг страдательным психологическим процессом до того, что в "Мертвом доме" слился совсем с народом...» (Григорьев Ап. А. Лит. критика. М., 1967. С. 483).
Достоевский написал не бесстрастно объективированную хронику каторги, но исповедально-эпическое и притом «христианское» и «назидательное» повествование о «самом даровитом, самом сильном народе из всего народа нашего», о его «могучих силах», которые в Мертвом доме «погибли даром». В поэтическом народном человековедении «Записок из Мертвого дома» выразились пробы большинства основных характеров позднего Достоевского-художника: «мягкий сердцем», «добрый», «стойкий», «симпатичный» и «задушевный» (Алей); коренной великорусский, «премилейший» и «полный огня и жизни» (Баклушин); «сирота казанская», «тихий и кроткий», но способный в крайностях к бунту (Сироткин); «самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных», героичный в потенции (Петров); по-аввакумовски стоически страдающий «за веру», «смирный и кроткий как дитя» раскольник-мятежник («дедушка»); «паучий» (Газин); артистичный (Поцейкин); «сверхчеловек» каторги (Орлов) — всей социально-психологической коллекции человеческих типов, явленных в «Записках из Мертвого дома», не перечислить. Важным в итоге остается одно: характерологические штудии русского острога открыли писателю безгоризонтный духовный мир человека из народа. На этих эмпирических основаниях обновлялась и утверждалась романно-публицистическая мысль Достоевского. Внутреннее творческое сближение с народным элементом, начавшееся в эпоху Мертвого дома, вывело ее на сформулированный писателем в 1871 г. «закон поворота к национальности».
Исторические заслуги автора «Записок из Мертвого дома» перед отечественной этнологической культурой будут ущемлены, если не обратить акцентированного внимания еще на некоторые стороны народной жизни, которые нашли в Достоевском своего первооткрывателя и первоистолкователя.
Главам «Представление» и «Каторжные животные» отведен в «Записках...» особый идейно-эстетический статус. Они живописуют быт и нравы арестантов в обстановке, приближенной к естественной, исконной, т.е. неострожной народной деятельности. Очерк о «народном театре» (термин изобретен Достоевским и вошел в оборот фольклористики и театроведения), составивший сердцевину прославленной одиннадцатой главы «Записок из Мертвого дома», бесценен. Это единственное в русской литературе и этнографии столь полное («отчетно-репортерское») и компетентное описание феномена народного театра XIX в. — незаменимый и классический источник по истории России театральной.
Рисунок композиции «Записок из Мертвого дома» подобен каторжной цепи. Кандалы — тяжелая меланхолическая эмблема Мертвого дома. Но цепное расположение звеньев-глав в книге асимметрично. Цепь, состоящая из 21 звена, делится пополам как раз срединной (непарной) одиннадцатой главой. В поглавной слабосюжетной архитектонике «Записок из Мертвого дома» глава одиннадцатая — из ряда вон выходящая, композиционно, выделенная. Достоевский поэтически наделил ее громадной жизнеутверждающей силой. Это запрограммированная наперед кульминация повествования. Всей мерой таланта писатель воздает здесь должное духовной мощи и красоте народа. В радостном порыве к светлому и вечному душа Достоевского-Горянчикова, ликуя, сливается с народной душой (актеров и зрителей). Торжествует принцип свободы человека и неотъемлемого права на нее. Народное искусство ставится в образец, в чем могут удостовериться высшие авторитеты России: «Это камаринская во всем своем размахе, и право было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас в остроге».
За острожным частоколом сложилась своя, если допустимо так выразиться, «темнично-каторжная» цивилизация — прямое отражение в первую очередь традиционной культуры русского крестьянина. Обычно главу о животных рассматривают под стереотипным углом зрения: братья наши меньшие разделяют с арестантами участь невольников, образно-символически дополняют, дублируют и оттеняют ее. Это неоспоримо так. Анималистические страницы действительно соотносятся со звериными началами в людях из Мертвого дома и вне него. Но Достоевскому чужда идея внешнего сходства между человеческим и звериным. То и другое в бестиарных сюжетах «Записок из Мертвого дома» связано узами естественно-исторического родства. Рассказчик не следует христианским традициям, предписывающим видеть за реальными свойствами тварей химеричные подобия божественного или дьявольского. Он целиком во власти здоровых, посюсторонних народно-крестьянских представлений о повседневно близких к людям животных и о единстве с ними. Поэтичность главы «Каторжные животные» — в целомудренной простоте рассказа о человеке из народа, взятом в его извечных отношениях к животным (лошади, собаке, козлу и орлу); отношениях соответственно: любовно-хозяйственных, утилитарно-шкуродерских, потешно-карнавальных и милосердно-почтительных. Глава-бестиарий вовлечена в единый «страдательный психологический процесс» и довершает картину трагедии жизни в пространстве Мертвого дома.
Книг о русской тюрьме создано множество. От «Жития протопопа Аввакума» до грандиозных полотен А.И. Солженицына и лагерных рассказов В.Т. Шаламова. Но всесторонне основополагающими в этом литературном ряду оставались и останутся «Записок из Мертвого дома». Они как бессмертная притча или провиденциальная мифологема, некий всезначащий архетип из русской литературы и истории. Что могло быть более несправедливым, чем отыскивать в них во времена оны т.н. «ложь достоевщины» (Кирпотин)!
Книга о великой, хотя и «нечаянной» близости Достоевского к народу, о добром, заступническом и бесконечно сочувственном к нему отношении — «Записки из Мертвого дома» первозданно проникнуты «христианским человечески-народным» взглядом (Григорьев Ап. А. Лит. критика. С. 503) на неблагоустроенный мир. В этом тайна их совершенства и обаяния.
Владимирцев В.П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. СПб., 2008. С. 70—74.
«Записки из Мертвого дома» — вершинное произведение зрелого нероманного творчества Достоевского. Очерковая повесть «Записки из Мертвого дома», в основу жизненного материала которой положены впечатления четырехлетнего омского каторжного заключения писателя, занимает особое место и в творчестве Достоевского, и в русской литературе середины XIX в.
Будучи драматичными и горестными по проблематике и жизненному материалу, «Записки из Мертвого дома» являются одним из наиболее гармоничных, совершенных, «пушкинских» произведений Достоевского. Новаторская природа «Записок из Мертвого дома» реализовалась в синтетичности и полижанровой форме очерковой повести, приближающейся по организации целого к Книге (Библии). Способ ведения рассказа, характер повествования изнутри преодолевают трагизм событийной канвы «записок» и выводит читателя к свету «истинно христианского», по словам Л.Н. Толстого, взгляда на мир, на судьбу России и на биографию основного рассказчика, косвенно соотносящуюся с биографией самого Достоевского. «Записки из Мертвого дома» — это книга о судьбе России в единстве конкретного исторического и метаисторического аспектов, о духовном путешествии Горянчикова, подобно дантовскому страннику в «Божественной комедии», силой творчества и любви преодолевающего «мертвые» начала русской жизни и обретающего духовное отечество (Дом). К сожалению, острая историческая и социальная актуальность проблематики «Записок из Мертвого дома» заслонила ее художественное совершенство, новаторство подобного типа прозы и нравственно-философскую уникальность как от современников, так и от исследователей XX в. Современное литературоведение, несмотря на огромное количество частных эмпирических работ по проблематике и осмыслению социально-исторического материала книги, делает только первые шаги в направлении изучения уникальной природы художественной целостности «Записок из Мертвого дома», поэтики, новаторства авторской позиции и характера интертекстуальности.
Настоящая статья дает современную интерпретацию «Записок из Мертвого дома» через анализ повествования, понятого как процесс осуществления авторской целостной активности. Автор «Записок из Мертвого дома» как некое динамичное интегрирующее начало осуществляет свою позицию в постоянных колебаниях между двумя противоположными (и никогда в пределе не осуществляющимися) возможностями — войти внутрь созданного им мира, стремясь к взаимодействию с героями как с живыми людьми (этот прием называется «вживание»), и в то же время максимально дистанцироваться от созданного им произведения, подчеркивая вымышленность, «сочиненность» героев и ситуаций (прием, названный М.М. Бахтиным «отчуждением»).
Историко-литературная ситуация начала 1860-х гг. с ее активной диффузией жанров, рождающая потребность в гибридных, смешанных формах, сделала возможной осуществление в «Записках из Мертвого дома» эпопеи народной жизни, которую с некоторой долей условности можно назвать «очерковой повестью». Как и во всякой повести, движение художественного смысла в «Записках из Мертвого дома» реализуется не в сюжете, а во взаимодействии разных повествовательных планов (речь основного рассказчика, устных рассказчиков-каторжников, издателя, молвы).
Само название «Записки из Мертвого дома» принадлежит не человеку, их написавшему (Горянчиков называет свое произведение «Сцены из Мертвого дома»), а издателю. B заглавии как бы встретились два голоса, две точки зрения (Горянчикова и издателя), даже два смысловых начала (конкретно-хроникальное: «Записки из Мертвого дома» — как указание на жанровую природу — и символически-концептуальная формула-оксюморон «Мертвый дом»).
Образная формула «Мертвый дом» предстает как своеобразный момент концентрации смысловой энергии повествования и вместе с тем в самом общем виде намечает то интертекстуальное русло, в котором будет разворачиваться ценностная активность автора (от символического наименования Российской империи Некрополисом у П.Я. Чаадаева до аллюзий на повести В.Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца», «Бал», «Живой мертвец» и шире — тему мертвой бездуховной действительности в прозе русского романтизма и, наконец, до внутренней полемики с названием гоголевской поэмы «Мертвые души»), Оксюморонность подобного названия как бы повторена Достоевским на ином смысловом уровне.
Горькой парадоксальности гоголевского названия (бессмертная душа объявляется мертвой) противопоставляется внутренняя напряженность противоборствующих начал в определении «Мертвый дом»: «Мертвый» в силу застойности, несвободы, отъединенности от большого мира, а больше всего от бессознательной стихийности быта, но все-таки «дом» — не только как жилье, тепло очага, убежище, сфера существования, но и как семья, род, общность людей («странное семейство»), принадлежащее одной национальной целостности.
Глубина и смысловая емкость художественной прозы «Записок из Мертвого дома» особенно ярко обнаруживают себя в открывающей введение интродукции о Сибири. Здесь дается результат духовного общения издателя-провинциала и автора записок: на уровне сюжетно-событийном понимание, казалось бы, не состоялось, однако структура повествования обнаруживает взаимодействие и постепенное проникновение мировосприятия Горянчикова в стиль издателя.
Издатель, он же и первый читатель «Записок из Мертвого дома», постигая жизнь Мертвого дома, одновременно ищет разгадку Горянчикова, движется ко все большему его пониманию не через факты и обстоятельства жизни в каторге, но скорее через процесс приобщения к мировосприятию рассказчика. И мера этого приобщения и понимания зафиксирована в главе VII части второй, в сообщении издателя о дальнейшей судьбе арестанта — мнимого отцеубийцы.
Но и сам Горянчиков ищет разгадку души народной путем мучительно трудного приобщения к единству народной жизни. Через разные типы сознания преломляется действительность Мертвого дома: издатель, А.П. Горянчиков, Шишков, рассказывающий историю загубленной девушки (глава «Акулькин муж»); все эти способы мировосприятия глядятся друг в друга, взаимодействуют, корректируются один другим, на границе их рождается новое универсальное видение мира.
Введение осуществляет взгляд на «Записки из Мертвого дома» извне; заканчивается оно описанием первого впечатления издателя от их чтения. Важно, что в сознании издателя присутствуют оба начала, определяющие внутреннюю напряженность повествования: это интерес как к объекту, так и к субъекту рассказа.
«Записки из Мертвого дома» — это история жизни не в биографическом, а скорее в бытийном смысле, это история не выживания, а жизни в условиях Мертвого дома. Два взаимосвязанных процесса определяют природу повествования «Записок из Мертвого дома»: это история становления и роста живой души Горянчикова, совершающаяся по мере постижения им живых плодотворных основ народного бытия, явленных в быте Мертвого дома. Духовное самопознание рассказчика и постижение им народной стихии совершается одновременно. Композиционное построение «Записок из Мертвого дома» в основном определяется изменением взгляда рассказчика — как закономерностями психологического отражения действительности в его сознании, так и направленностью его внимания на явления жизни.
«Записки из Мертвого дома» по внешнему и внутреннему типу композиционной организации воспроизводят годовой круг, круг жизни в каторге, осмысляемый как круг бытия. Из двадцати двух глав книги первая и последняя разомкнуты за пределы острога, во введении дана краткая история жизни Горянчикова после каторги. Остальные двадцать глав книги строятся не как простое описание каторжного быта, а как умелый перевод видения, восприятия читателя от внешнего к внутреннему, от бытового к незримому, сущностному. Первая глава реализует итоговую символическую формулу «Мертвый дом», следующие за ней три главы названы «Первые впечатления», чем подчеркнута личностность целостного опыта рассказчика. Потом две главы названы «Первый месяц», чем продолжена хроникально-динамическая инерция восприятия читателя. Далее три главы содержат многосоставное указание на «новые знакомства», необычные ситуации, колоритных персонажей острога. Кульминационными являются две главы — X и XI («Праздник Рождества Христова» и «Представление»), причем в X главе даны обманутые ожидания каторжников о несостоявшемся внутреннем празднике, а в главе «Представление» раскрыт закон необходимости личностного духовно-творческого участия, чтобы настоящий праздник состоялся. Вторая часть содержит четыре самые трагические главы с впечатлениями о госпитале, людских страданиях, палачах, жертвах. Завершается эта часть книги подслушанной историей «Акулькин муж», где рассказчик, вчерашний палач, оказался сегодняшней жертвой, но смысла произошедшего с ним так и не увидел. Последующие пять завершающих глав дают картину стихийных порывов, заблуждений, внешнего действия без понимания внутреннего смысла персонажей из народа. Итоговая десятая глава «Выход из каторги» знаменует не просто физическое обретение свободы, но дает и внутреннее преображение Горянчикова светом сочувствия и понимания трагедии народной жизни изнутри.
На основании всего сказанного выше можно сделать следующие выводы: повествование в «Записках из Мертвого дома» вырабатывает новый тип взаимоотношения с читателем, в очерковой повести активность автора направлена на формирование читательского мировосприятия и реализуется через взаимодействие сознаний издателя, рассказчика и устных рассказчиков из народа, обитателей Мертвого дома. Издатель выступает в качестве читателя «Записок из Мертвого дома» и является одновременно субъектом и объектом изменения мировосприятия.
Слово рассказчика, с одной стороны, живет постоянной соотнесенностью с мнением всех, иначе говоря, с правдой общенародной жизни; с другой — активно обращено к читателю, организуя целостность его восприятия.
Диалогичность взаимодействия Горянчикова с кругозорами других рассказчиков направлена не на их самоопределение, как в романе, а на выявление их позиции по отношению к общей жизни, поэтому во многих случаях слово рассказчика взаимодействует с неперсонифицированными голосами, которые помогают формированию его способа видения.
Обретение подлинно эпического взгляда становится формой духовного преодоления разобщенности в условиях Мертвого дома, которую рассказчик разделяет с читателями; это эпическое событие определяет как динамику повествования, так и жанровую природу «Записок из Мертвого дома» как очерковой повести.
Динамика повествования рассказчика всецело обусловлена жанровой природой произведения, подчинена реализации эстетического задания жанра: от обобщенного взгляда издалека, «с птичьего полета» к освоению конкретного явления, которое осуществляется с помощью сопоставления разных точек зрения и выявления их общности на основе народного восприятия; далее эти выработанные меры народного сознания делаются достоянием внутреннего духовного опыта читателя. Таким образом, точка зрения, обретенная в процессе приобщения к стихии народной жизни, выступает в событии произведения одновременно средством и целью.
Так, введение от издателя дает установку на жанр, остраняет фигуру основного рассказчика, Горянчикова, дает возможность показать его и изнутри и извне, как субъект и объект повествования одновременно. Движение повествования внутри «Записок из Мертвого дома» определяется двумя взаимосвязанными процессами: духовным становлением Горянчикова и саморазвитием народной жизни, в той мере, как это открывается по мере постижения ее героем-повествователем.
Внутренняя напряженность взаимодействия индивидуального и коллективного миросозерцания реализуется в чередовании конкретно-сиюминутной точки зрения рассказчика-очевидца и его же итоговой точки зрения, дистанцированной в будущее как время создания «Записок из Мертвого дома», а также точкой зрения общей жизни, предстающей то в ее конкретно-бытовом варианте массовой психологии, то в сущностном бытии универсального народного целого.
Акелькина Е.А. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. СПб., 2008. С. 74—77.
Прижизненные публикации (издания):
1860—1861 — Русский мир. Газета политическая, общественная и литературная. Под редакцией А.С. Гиероглифова. СПб.: Тип. Ф. Стелловского. Год второй. 1860. 1 сентября. № 67. С. 1—8. Год третий. 1861. 4 января. № 1. С. 1—14 (I. Мертвый дом. II. Первые впечатления). 11 января. № 3. С. 49—54 (III. Первые впечатления). 25 января. № 7. С. 129—135 (IV. Первые впечатления).
1861—1862 — . СПб.: Тип. Э Праца.
1862: Январь. С. 321—336. Февраль. С. 565—597. Март. С. 313—351. Май. С. 291—326. Декабрь. С. 235—249.
1862 —
Второй тираж: Часть первая [и единственная]. СПб.: Тип. Э. Праца, 1862. 167 с.
1862 — Второе издание. СПб.: Изд. А.Ф. Базунова. Тип. И. Огризко, 1862. Часть первая. 269 с. Часть вторая. 198 с.
1863 — СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1863. — С. 108—124.
1864 — Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов. Издание второе, исправленное и дополненное. Том первый. Эпическая поэзия. СПб.: Тип. И. Огризко, 1864. — С. 686—700.
1864 — : nach dem Tagebuche eines nach Sibirien Verbannten: nach dem Russischen bearbeitet / herausgegeben von Th. M. Dostojewski. Leipzig: Wolfgang Gerhard, 1864. B. I. 251 s. B. II. 191 s.
1865 — Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. Издание и собственность Ф. Стелловского. СПб.: Тип. Ф. Стелловского, 1865. Т. I. С. 70—194.
1865 — В двух частях. Третье издание, просмотренное и дополненное новой главой. Издание и собственность Ф. Стелловского. СПб.: Тип. Ф. Стелловского, 1865. 415 с.
1868 — Выпуск первый [и единственный]. [Б.м.], 1868. — Записки из Мертвого дома. Акулькин муж. С. 80—92.
1869 — Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов. Издание третье, значительно исправленное. Часть первая. Эпическая поэзия. СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1869. — Записки из Мертвого дома. Представление. С. 665—679.
1871 — Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов. Издание четвертое, значительно исправленное. Часть первая. Эпическая поэзия. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1871. — Записки из Мертвого дома. Представление. С. 655—670.
1875 — Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов. Издание пятое, значительно исправленное. Часть первая. Эпическая поэзия. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1875. — Записки из Мертвого дома. Представление. С. 611—624.
1875 — Издание четвертое. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Часть первая. 244 с. Часть вторая. 180 с.
СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Часть первая. 244 с. Часть вторая. 180 с.
1880 — Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов. Издание шестое (печатано с третьего издания). Часть первая. Эпическая поэзия. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1879 (на обл. — 1880). — Записки из Мертвого дома. Представление. С. 609—623.
Посмертное издание, подготовленное к печати А.Г. Достоевской:
1881 — Издание пятое. СПб.: [Изд. А.Г. Достоевской]. Тип. брат. Пантелеевых, 1881. Ч. 1. 217 c. Часть 2. 160 с.
Чтобы человек мог считать, что он живёт, ему недостаточно просто существовать. Нужно ещё что-то, чтобы жизнь была действительно жизнью. Писатель Ф. М. Достоевский считал, что нельзя считать себя живым без свободы. И эта мысль отражена в его произведении «Записки из Мертвого дома». В него он включил свои воспоминания и впечатления о жизни каторжников. Сам писатель четыре года провёл в Омском остроге, где имел возможность подробнейшим образом изучить мировоззрение и быт каторжников.
Эта книга – литературный документ, который также иногда называют художественными мемуарами. В ней нет одного сюжета, это зарисовки из жизни, пересказы, воспоминания и мысли. Главный герой повествования Александр Петрович Горянчиков убил свою жену из ревности, а в наказание провёл 10 лет на каторге. Он был дворянского рода, и каторжники крестьянского происхождения относились к нему одновременно с неприязнью и почитанием. Отбыв каторгу, Горянчиков стал подрабатывать репетиторством и записывать свои мысли о том, что он видел на каторге.
Из книги можно узнать, каким был быт и нравы заключённых, какие работы они выполняли, как относились к преступлениям, и к своим, и к чужим. Существовало три разряда каторги по сложности, про каждый из них рассказывает автор. Видно, как каторжане относились к вере, к своей жизни, чему радовались и из-за чего расстраивались, как стремились порадовать себя хоть чем-то. И на какие-то вещи начальство закрывало глаза.
Автор делает зарисовки из жизни каторжников, рисует психологические портреты. Много он рассуждает о том, какими были люди на каторге, чем жили и как видели самих себя. Писатель приходит к выводу, что только при наличии свободы человек может чувствовать себя живым. Поэтому его произведение имеет название «Записки из Мертвого дома», как сравнение с тем, что на каторге не живут, а лишь существуют.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Записки из Мертвого дома" Достоевский Федор Михайлович бесплатно и без регистрации в формате epub, fb2, pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Федор Михайлович Достоевский
Записки из мертвого дома
Часть первая
Введение
В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами – одной в городе, другой на кладбище, – города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, – или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.
В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльно-каторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивая каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, – одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.
Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею – как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *
ВВЕДЕНИЕ
В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов,
попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами
жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами - одной в городе, другой
на кладбище, - города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на
город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями
и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод,
служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки
старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие
роль сибирского дворянства, - или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие
из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет
окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в
будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в
Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые
и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать
загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они
в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три
года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются
восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с
служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать.
Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов;
много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны
до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника.
Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает
в иных местах сам-пятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только
уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.
В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим
населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце,
встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России
дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльно-каторжным второго разряда
за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом
десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в
городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной
волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь
пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из
ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно
французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них
в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил
Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного
чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных
лет, подававших прекрасные надежды.