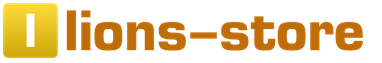Читать книгу «Воспоминания детства» онлайн полностью — Василий Никифоров-Волгин — MyBook. Рассказы страстной седмицы
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2006
В нем морского -
Мороза хруст, что хрупок, как миндаль
И вместе с ним о горестном всплакнуть;И. Северянин. 1936 г.
Забытый писатель
В. А. Никифоров-Волгин
Одним из незаслуженно забытых у нас русских литераторов был В. Никифоров-Волгин, писатель со своим лицом, со своим стилем, со своими темами. Он успел выпустить при жизни только два сборника рассказов и миниатюр: «Земля-именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938). В 1960 и 1971 годах в США обе эти книги были переизданы, в последние годы в России вышло несколько сборников рассказов и повестей В. Никифорова-Волгина.
Василий Акимович (Иоакимович) Никифоров родился 24 декабря 1900 г. (6 января 1901 г. по новому стилю) в деревне Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии на Волге в семье сапожника из крестьян. Вскоре после рождения Васи семья Никифоровых переехала в Нарву, в город, где около половины населения составляли русские. Семья была большой – у Васи было четыре сестры и два брата – и жилось ей трудно. Прокормить семью помогала мать-прачка. Жили в одной комнатке, в холодном и сыром мансардном помещении, часто голодали. Как вспоминал друг В. Никифорова, автор неопубликованных воспоминаний «Глазами журналиста и актера», С. Рацевич, Васю с детства отличала неуемная страсть к знаниям, ненасытная любовь к книгам. Будущий писатель смог закончить только церковно-приходскую школу при Свято-Владимирском братстве (правда, это была хорошая школа), выдержал экстерном экзамен в седьмой класс Нарвской русской эмигрантской гимназии, но продолжить образование в гимназии не смог – не было средств. Оставался один путь – работать и учиться самостоятельно, и юноша серьезно занялся самообразованием. «Не раз пьяный отец шпандырем избивал сына, когда заставал его по ночам сидящим за книгою. Вася увлекался логикой, философией, историей, но превыше всего любил русскую литературу. Его любимыми писателями были Лесков, Достоевский, Чехов. Знал он их отлично, на память цитировал отрывки произведений», – вспоминал С. Рацевич. Из поэтов же его любимцем был Есенин. Юноша рано начал писать, хотя и не любил рассказывать об этом окружающим.
Для интеллектуального развития юноши тогдашняя Нарва все же предоставляла неплохие возможности. Старинная Нарва с изумительными и доныне сохранившимися древними крепостями, с уникальным архитектурным ансамблем в стиле барокко XVII века, уничтоженным последней войной, была немаловажным культурным центром Эстонии, причем не только центром эстонской, но и русской культуры. Здесь было два театра – русский и эстонский, несколько гимназий, музыкальное и художественное училища, балетная студия, русский народный университет, много обществ – русских, эстонских, немецких, два великолепных музея, которые сделали бы честь и городу, несравнимо большему, чем Нарва, – Лаврецовский и Дом Петра I; здесь издавались книги, газеты и даже журналы. После революции в
Нарве оказалось много эмигрантов из числа интеллигенции, живших тоже очень бедно, но все же не дававших Нарве опуститься до уровня провинциального захолустья, хотя требовательный В. Никифоров-Волгин позже и жаловался на это. Среди них были актеры, композиторы, музыканты, художники, литераторы.
В 1920 г. американец Райт создал в Нарве отделение Христианского Союза молодых людей, при котором возник литературный кружок. После отъезда Райта группа нарвской молодежи, в которую входил и В. Никифоров, организует Союз русской молодежи, устраивавший литературно-музыкальные вечера, концерты, дававший спектакли. Он просуществовал, правда, недолго, но был первой самостоятельной попыткой нарвской русской молодежи объединиться.
В. Никифоров, с детства хорошо знавший православное богослужение (его семья была очень религиозной) и обладавший высоким голосом с отчетливой выразительной дикцией, устроился псаломщиком в нарвский Спасо-Преображенский собор. Псаломщиком он оставался до весны 1932 г. Отсюда и идет то прекрасное знание церковной жизни, быта духовенства, которое мы видим в его произведениях. По воспоминаниям С. Рацевича, В. Никифоров любил еще до начала богослужения забираться с блокнотом и карандашом в укромный уголок церковной сторожки, слушать и записывать, о чем говорили между собой богомолки и случайно заходившие сюда погреться и заодно посплетничать люди. Острые словечки, чисто народные обороты речи позже оказывались в его рассказах и фельетонах.
Свои публикации он, как правило, подписывает псевдонимом Василий Волгин – в память о великой русской реке, на которой прошли первые годы его жизни. Этим псевдонимом он как бы подчеркивал свою глубинную связь с оставленной родиной. Со временем он стал чаще подписываться В. Никифоров-Волгин, объединив свою фамилию с псевдонимом.
В 1927 г. приходит и первое признание: на конкурсе молодых авторов, проведенном старейшим русским литературным объединением в Эстонии – Литературным кружком в Таллинне, первая премия была присуждена рассказу В. Никифорова-Волгина «Земной поклон».
В октябре того же 1927 года, при непосредственном участии В. Никифорова-Волгина, в Нарве возникает русское спортивно-просветительное общество «Святогор», которое вскоре стало центром всей культурной работы русских в городе. При «Святогоре» создаются спортивный, драматический, литературный и шахматный кружки. В. Никифоров-Волгин активно участвует в работе литературного кружка, а в 1930–1932 гг. и возглавляет его. Кружок объединил почти всех русских литераторов и любителей словесности Нарвы. На заседаниях кружка читались и обсуждались литературные произведения, заслушивались доклады на литературные темы, устраивались «вечера личного творчества», на которых выступали с чтением своих произведений местные авторы, время от времени выпускалась так называемая «живая газета». Кружок регулярно устраивал «четверги» с разнообразной программой, рассчитанной на более широкую публику. В. Никифоров-Волгин был душой всех этих мероприятий. Под редакцией В. Никифорова-Волгина, Ф. Лебедева и С. Рацевича в декабре 1928 г. выходит «литературно-общественная газета» общества «Святогор» «Всходы». Для детских представлений «Святогора» В. Никифоров-Волгин пишет инсценировку русской народной сказки «Ваня и Маша», а для драматического кружка – пьесу «Безумие Измайлова». В пьесе рассказывалось о трагической судьбе русского офицера, оказавшегося в эмиграции без семьи, без средств к существованию и кончающего жизнь в сумасшедшем доме. Пьеса, к сожалению, осталась неопубликованной.
В январе 1929 г. при обществе «Святогор» создается религиозно-философский кружок, несколько позже положивший начало местной организации Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД). В. Никифоров-Волгин, живо интересовавшийся новейшими течениями в русской зарубежной философской мысли и увлекавшийся трудами Н. Бердяева, С. Франка, И. Ильина, принимал участие в деятельности РСХД. Он участвовал в 1929–1930 гг. в съездах РСХД Прибалтики, проходивших в Печерском и Пюхтицком монастырях.
В 1930 г. под редакцией В. Никифорова-Волгина и другого местного литератора Л. Акса в Нарве выходил журнал «Полевые цветы». Он был органом русской литературной молодежи в Эстонии в конце 1920-х – первой половине 1930 гг. В. Никифоров-Волгин принимает участие почти во всех русских журналах и сборниках, выходящих в свет в Эстонии («Новь», «Панорама», «Старое и новое»), а также эпизодически в ряде зарубежных изданий.
На хлеб В. Никифоров-Волгин зарабатывает сотрудничеством в газетах – вначале в «Старом нарвском листке», позже в таллиннских «Вестях дня» (с 1933 г. он даже числился собственным корреспондентом газеты в Нарве) и «Русском вестнике», в рижском журнале «Для Вас». В этих изданиях он, помимо корреспонденций, печатал очерки и популярные статьи из истории Нарвы. С начала 1930-х гг. В. Никифоров-Волгин занялся разысканиями в нарвских архивохранилищах, прежде всего, в Нарвском городском архиве. На их основе он подготовил ряд газетных публикаций, т. к. ему удалось найти в архивах ряд интереснейших документов, имеющих отношение к истории и культуре России.
Впрочем, газеты платили в ту пору мало, и жил писатель в бедности. В одной заметке в газете «Вести дня» (1933, 15 апр., (89)), сообщалось: «В тихой Нарве, на мансарде прогнившего дома, в вечных тисках нужды живет В. А. Никифоров-Волгин». По воспоминаниям родственников, писать ему приходилось дома в присутствии шумевших братьев и сестер.
Между тем, к середине 1930-х гг. В. Никифоров-Волгин был уже довольно известным писателем. Он находился в переписке со многими видными русскими литераторами из эмигрантов – с И. Шмелевым, Б. Зайцевым, А. Амфитеатровым, С. Минцловым, С. Горным (А. Оцупом) и др. В 1935 г. на литературном конкурсе популярного парижского журнала «Иллюстрированная Россия» В. Никифоров-Волгин получил премию за рассказ «Архиерей», который был опубликован на страницах этого издания. В том же году известный русский критик П. Пильский публикует в солидной, имевшей широкое распространение рижской газете «Сегодня» (1935, 15 окт., (285)) статью о В. Никифорове-Волгине, в которой высоко отзывается о его творчестве. П. Пильский привлекает В. Никифорова-Волгина к сотрудничеству в газете, и в последние годы жизни писателя именно «Сегодня» становится основным местом публикации его произведений. В 1935 же году один его рассказ впервые появляется в эстонском переводе.
В. Никифоров-Волгин
Ему мила мерцающая даль
Эпохи Пушкина и дней Лескова,
Он чувствует Шмелева мастерского
И сроден духу родниковый Даль.
Деревню ль созерцает, города ль,
В нем нет невыносимо городского;
Он всюду сын природы. В нем морского
Мороза хруст, что хрупок, как миндаль.
В весенний сад, что от дождя заплакан,
Выходит прогуляться старый диакон
И вместе с ним о горестном всплакнуть,
Такой понятный автору и близкий…
В. Никифоров-Волгин чувствует бесперспективность своего дальнейшего пребывания в Нарве и в самом конце 1935 или в первых числах 1936 г. переезжает в Таллинн. В Таллинне он становится домашним учителем и воспитателем внука генерала-эмигранта Ю. Штубендорфа, очень интеллигентного человека; лишь благодаря его финансовой поддержке смогла выйти в свет первая книга В. Никифорова-Волгина, которую он и посвятил Ю. А. Штубендорфу. В Таллинне писатель принимает участие в деятельности местного русского спортивного и культурно-просветительного общества «Витязь», избирается почетным членом Литературного отдела общества, сотрудничает в издаваемых обществам сборниках под тем же названием «Витязь».
В мае 1937 г. наконец-то выходит в свет первый сборник рассказов В. Никифорова-Волгина «Земля-именинница», встреченный положительными рецензиями в ряде зарубежных русских органов печати. Сохранились сведения, что умиравший в Италии А. В. Амфитеатров просил перед смертью почитать ему рассказы из «Земли-именинницы». Осенью 1938 г. в том же издательстве «Русская книга» в Таллинне печатается второй сборник В. Никифорова-Волгина – «Дорожный посох». В 1939 г. готовился к печати третий сборник – «Древний город. (Жизнь и нравы русской провинции после революции)», который, видимо, должен был быть посвящен Нарве 1920–1930 гг. Сборник планировалось выпустить в 1940 г., но этому помешали, по всей вероятности, события лета 1940 г. К этому времени сборник «Земля-именинница» уже был распродан и встал вопрос о его переиздании.
Установление советской власти в Эстонии 1940 г. губительно сказалось на русской культурной и литературной жизни в республике: были закрыты все русские общества, газеты, многие писатели и деятели культуры репрессированы. 15 мая 1941 г. состоялась свадьба В. Никифорова-Волгина и Марии Георгиевны Благочиновой, с которой он познакомился в доме Штубендорфов, а 24 мая писатель, работавший в это время ночным сторожем на судоремонтном заводе, был арестован органами НКВД. По воспоминаниям современников, он предчувствовал свой арест, ждал его. С началом войны В. Никифоров-Волгин был этапирован в город Киров, где в августе 1941 г. приговорен к расстрелу по 58-й статье – за «принадлежность к различным белогвардейским монархическим организациям», «издание книг, брошюр и пьес клеветнического антисоветского содержания». Приговор был приведен в исполнение в городе Кирове 14 декабря 1941 г. Официально реабилитирован В. Никифоров-Волгин был лишь в 1991 году…
По воспоминаниям хорошо знавших его людей, В. Никифоров-Волгин был удивительно добрым, сердечным, отзывчивым человеком, который почти ни с кем не ссорился, старался никогда никого не обидеть. Сестры рассказывали автору этих строк, как однажды в жестокий мороз Василий отдал на улице нищему свою шапку и зимнее пальто, а в оправдание дома говорил: «Жаль человека – он мерз, а я уж как-нибудь проживу».
Но, главное, В. Никифоров-Волгин был глубоко верующим человеком, и это прежде всего определяет его мировосприятие. По искреннему убеждению писателя, основой всей нашей морали может быть только религия, вера в Бога. На ней держится мораль, без нее люди превращаются в зверей. Только на вере, на христианском учении могут базироваться все теории и программы преобразования человеческого общества и личности индивида.
Отсюда важность Церкви и духовенства – носителей веры. Правда, современная Церковь и современное духовенство далеко не всегда удовлетворяли В. Никифорова-Волгина. В его статьях нередка суровая критика современного христианства вообще и Православия в частности. «Вся наша вера ушла в форму, в бездушное исполнение обрядов», и в то же время истинная, глубинная сущность христианства утеряна. Однако в художественных произведениях В.
Никифорова-Волгина критика духовенства и Церкви редка и, как правило, очень мягка. В повести «Дорожный посох», в рассказах и лирических миниатюрах В. Никифорова-Волгина Церковь и ее представители выступают в первую очередь как носители веры, защитники высоких этических принципов. Это страдальцы, мученики за веру, люди подлинных идеалов. Это те, кто не дают нам превратиться в зверей.
Революция же для В. Никифорова-Волгина – страшная, злая и всеразрушающая сила, жестоко и беспощадно сметающая старый мир, традиционную мораль, веру, даже первозданную русскую природу (рассказ «Старый лес»). Но, главное, революция и коммунизм – это разрушение личности, разрушение души человека, потому что душа – основа личности – держится на вере в Бога.
Спасение, как кажется В. Никифорову-Волгину, – в возврате к вере, к Богу, к религии. Главное – в «революции нашего духа», в нравственном совершенствовании, в преображении нашей русской души, в которой так много скверны. Все мы виноваты, и все нам надо покаяться. В. Никифоров-Волгин в своих статьях часто пытается пробудить угасшую совесть читателей, напоминая им об их нравственном долге.
По своим убеждениям В. Никифоров-Волгин был консерватором. Его любовь – это «лапотная, странная, богомольная» Русь, Русь «богатырская, кондовая», неразрывно связанная с Православной Церковью, с Царем (писатель был монархистом), с древними русскими национальными традициями, обрядами, обычаями. Она гибнет, уничтожаемая революцией, и В. Никифоров-Волгин горестно оплакивает ее гибель. Его надежды только на то, что все-таки большевикам не удалось уничтожить всю старую Русь, остатки ее сохранились, выжили. Писатель не верит ни в русскую интеллигенцию, ни в рабочую «массу», ни в привилегированные сословия императорской России – по его мнению, именно они и привели страну к революции своими безрассудными действиями, хотя исходили при этом из разных установок. Только остатки старой «кондовой» Руси, к которым относится и большинство духовенства, и верующая, не забывшая заветы дедов часть крестьянства, могут еще спасти Россию: «Тот народ спасет Россию, который глубоко сохранил в своем сердце образ тихого, ласкового и печального Бога-Христа!.. Эта Русь, этот народ-печальник, народ-богоносец спасет всех нас. Ни Троцкий, ни Луначарский, ни Горький, ни Маркс, ни иностранцы, ни Милюковы, ни социалисты и монархисты спасут Россию, а „глупая“, „наивная“ вера „выживших из ума“ стариков».
Однако, хотя В. Никифорову-Волгину ближе всего патриархальное крестьянство, в известном противоречии с этим он выступает за «личность», «индивида» – против «толпы». Революция, советский порядок, коммунистическая идеология уничтожают личность, индивидуальную свободу человека. Происходит насильственное «выравнивание людей», нивелировка их, всех людей хотят объединить в «разъяренную толпу».
Консерватизм приводил В. Никифорова-Волгина не только к отрицанию революции, большевизма, но и к отрицанию современной ему западной цивилизации с модой, сенсациями, конкурсами красоты, биржевиками, выборами, жаждой наживы.
Современный мир сверхполитизирован, политика в нем вытеснила мораль, нравственность, этику. В. Никифоров-Волгин, как, между прочим, и Игорь Северянин тех лет, глубоко презирает, даже ненавидит политику, причем всякую политику – и правых, и левых.
В Николин день 1828 года митрополит Филарет окончательно решил уйти на покой.
Он сел за письменный стол, взял большой лист плотной голубой бумаги, осмотрел гусиное перо, перекрестился и стал писать:
«Всемилостивейший Государь!
Священный долг служить Вашему Императорскому Величеству верою и правдою особенно вожделенным для меня делает благодарность к милостям и благодеяниям Вашего Императорского Величества, неизреченно для меня великим…»
Тут он остановился и задумался:
Да, тяжело мы пишем… Тяжело - Пушкин учит, как писать, да не слушаемся… Да… Пушкин… Александр Сергеевич… Упрямые и жестоковыйные мы люди!
Митрополит опять заскрипел гусиным пером:
«Но, при сознании внутренних моих недостатков, немощь телесная, в течение немалого времени едва преодолеваемая принужденными усилиями, наконец, отнимает у меня надежду соответствовать обязанностям вверенного мне служения…»
Я устал! От всего я устал! - сказал он вслух, не отрываясь от письма. - С душою некогда побеседовать!
«Посему приемлю дерзновение Ваше Императорское Величество всеподданнейше просить об увольнении меня от управления вверенной мне епархиею и дозволить избрать жительство в одном из монастырей…»
Да, тяжелый язык, тяжелый! - опять подумал митрополит, скрепляя прошение подписью:
«Вашего Императорского Величества верноподданный, митрополит Московский и Коломенский Филарет».
Завтра отправлю по назначению. Буду ждать Высочайшей резолюции!
На другой день И.В. Киреевский послал митрополиту на прочтение новое стихотворение Пушкина:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..
Перед духовными очами митрополита предстала душа великого поэта. До содрогания стало жалко его, потерявшего самое драгоценное в жизни, - веру в жизнь и в свое на земле призвание. В митрополите заговорил вдруг пастырь, призванный спасать человека. Все, что его тяготило и мучало за это время, уступило место ясному и глубокому сознанию своих задач и высокой своей посвященности…
Нельзя же так, Александр Сергеевич! - подумал он тепло и нежно. Такая сила тебе дадена и вдруг взываешь ты в тоске: «Дар напрасный, дар случайный…» Всем нам тяжело, Александр Сергеевич…
Во время вечерних, на сон грядущий, молитв митрополит опять вспомнил стихотворение Пушкина.
Он положил земной поклон.
Мир и успокоение подаждь душе раба Твоего Александра, ибо нужен он народу нашему… Во тьме ходящему!
И когда произнес эти слова, что–то яркое вспыхнуло в душе его. Он не мог больше молиться. Не закончив «вечернего правила», он поднялся с колен, зажег свечу, взял перо и быстро стал писать:
Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мне дана;
Не без правды ею тайно
На тоску осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тайных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою
Сердце чисто, светел ум.
Будь что будет! - сказал он. - Но эти строки пошлю Пушкину, как ответ на его горькие слова.
Тут он взглянул на конверт, адресованный Государю Императору.
Нет, нельзя мне покидать кафедры ради безмолвного монастыря, - решил он, - надо потрудиться! Ради тех великих и малых потрудиться, кои томятся тоскою и сомнениями в присномутном житии нашем! Подвиг надо восприять! Кто же утешит? Кто спасет?
Филарета долго томила мысль: дошел ли ночной его голос до сердца поэта?
И вот однажды получает он строки, написанные рукою самого Александра Сергеевича Пушкина:
…И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
Слава Тебе, Христе Свете Истинный, - перекрестился митрополит, - что пробудил малым, неискусным моим словом душу великого поэта!
И поцеловал пушкинские строки.
Великая суббота
В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.
В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:
Иди лучше к обедне! - выпроваживала меня мать. - Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…
Я зашел к Гришке, чтобы и его зазван в церковь, но тот отказался:
С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.
До качала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:
Дивен Бог во святых своих, - выкруглял он тернистые слова. - Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала…
Что зa притча? - думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок–то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его и совершилось чудо: медвежонок прозрел!
Скажи на милость! - сказал кто–то от сердца.
Это еще не все, - качнул головою старец, - на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою»…
Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бдение с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую воском закапанную книгу.
Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение Воскресение… Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: - Господа пойте, и превозносите во вся веки… Это послужило как бы всполощным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршит нотами и грянули волновым заплеском: - Господа пойте, и превозносите во вся веки… Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».
Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.
Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая святому Макарию:
Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно–бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканных глаголах: Господа пойте, и превозносите во вся веки!
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:
Это для чего?
Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.
Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне…
Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:
Да… часы на Спасской башне… Пробьют, - и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне - сто один выстрел!..
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок-сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!
Отец умолкает и закрывает глаза.
Ты засыпаешь?
Нет. На Москву смотрю.
А где она у тебя?
Перед глазами. Как живая…
Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом - лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен - речка плещется. В нее таежные деревья глядят, и церковь сбитая из крепких смолистых бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом - прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет - горькой вековушкой останется!
Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!
Хватит вам, вечать-то, - перебила нас мать, - высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене соныгами!
Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:
Скоро ли в церковь?
- Не вертись, как косое веретено! - тихо вспылила она. - Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.
Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках - только они были видны, а людей как бы и нет.
В полутемной церкви, около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:
Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:
Попробовать хотел!..
Ты лучше куличи пробуй, - и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
Где-то сейчас Пасха? - размышлял я. - Витает ли на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лествица, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпицами и мучениками. Господь обходит землю; благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши…
Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.
Идет, идет! - неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.
Кто идет?
Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.
Меня приметил в темноте нищий Яков.
Светловещанный звон! - сказал он и несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, - словно отваливали огромный камень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:
Никогда не буду обижать вас! - прижался к ним и громко воскликнул: - Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб - артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.
Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «так полагается» - Пасха! Пасха Господня! - бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла - стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!
И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, - свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых».
Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший храм, - и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, - вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега - «Воистину воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:
Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос Воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:
Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос Воскресе!
А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня:
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное».
Сердце мое зашлось от радости, - около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:
Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались… а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.
А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества: Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
- Ну, Господь тебя простит, сынок... Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено,- напутствовала меня мать к исповеди.Ладно! - нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.
Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:
Простите меня, Христа ради!
На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.
Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.
Куда это ты таким пижоном вырядился? - спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.
Исповедаться! - важно ответил я.
В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой мучеником»,- осклабился дворник. На это я буркнул: ладно!
Мои приятели - Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.
Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.
Ишь, Васька зафорсил-то! - насмешливо отзывается Котька.- В пальто новом... в сапогах, как кот... Обувь лаковая, а рожа аховая!
А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! - сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:
Сапожные шпильки!
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник... Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь!
Гудят печальные великопостные колокола.
Вот ужо... после исповеди, я Котьке покажу! - думаю я, подходя к церкви.
Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «Великого повечерия». С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:
Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!
Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.
Одежду и сапоги измызгаешь,- вздыхаю я,- нехорошо, когда ты во всем новом!
И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвизались три святолепных старца,- рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож.- Молились, постились и трудились... да... трудились... А кругом одна пустыня...
Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.
Васька! И ты исповедаться? - раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загривку.
Пойдем сыгранем в орла и решку, а? - упрашивает меня Витька, показывая пятак.
С тобой играть не буду! Ты всегда_жулишь!
И вот пошли три старца в един град к мужу праведному,- продолжает дядя Осип.
Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»
Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках.
Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? - ласково спрашивает меня.
Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:
Не... у нас полка высокая!..
И когда спросил он меня «какие же у тебя грехи?», я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод.
«Вот, вот,- встревожился я,- сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия...»
И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: кайся!
Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.
Батюшка...- произношу сквозь всхлипы,- я... я... в Великом посту... колбасу трескал! Меня Витька угостил. Я не хотел... но съел!..
Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова.
Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично.
Батюшка! У меня еще один грех. Забыл сказать его... Нашего дворника Давыда я называл «подметалой мучеником»...
Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви, с сердцем ясным и легким, и чему-то улыбался.
Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному, напевает: «Волною морскою, скрывшего древле». А за окном шумит радостный весенний дождь...
Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения.
Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!
И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал! А кругом рай Господень и радость несказанная!
Причащение
В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю, варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному - не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.Это не по-деревенски,- говорила она,- не по нашему свычаю!
А как же у Григорьевых,- спросишь ее,- или у Лютовых? Красятся они у них в самый разный цвет, и такие приглядные, что не наглядишься!
Григорьевы и Лютовы - люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, свычаи от самого Христа идут...
Я нахмурился и обиженно возразил:
Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.
А ты не огорчайся. Махни на них ручкой и вразуми: деревня-то, скажи, Божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое - не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего: форсить! Деревенского языка не бойся,- он тоже от Господа идет!
Мать вынула из чугунка яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала:
Поставь под иконы. В Светлую заутреню святить понесешь...
На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:
Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья.
Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладонь и пил,- говорят, что от нее голова болеть не будет...
Под деревьями лежал источенный капелью снег, и чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатою по солнечным дорожкам.
В десять часов утра ударили в большой колокол, к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.
Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки.
Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы), и каждый камень и камешек будет теплым от солнца.
В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.
Вчера и раньше все напоминало Страшный суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?
Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони - особенно девушки.
На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:
Чудесная русская вышивка!
Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.
Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим выходом:
«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое».
Причастника мя приими...- высветлялись в душе серебряные слова.
Вспомнились мне слова матери: если радость услышишь, когда причастишься,- знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил.
С волнением ожидал я Святого Таинства.
Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотою Чашей, и раздались слова:
Со страхом Божиим и верою приступите!
Из окна, прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.
Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошел к Чаше. Слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите, источника бессмертного вкусите».
По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук,- прижимал вселившуюся в меня радость Христову...
Мать и отец поцеловали меня и сказали:
С принятием Святых Тайн!
В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, - самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея тайныя... причастника мя приими».
И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу:
Пускай доживал бы крохотные свои дни!
Двенадцать Евангелий
До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.Евангельский огонь,- уверяла мать,- избавляет от скорби и душевной затеми!
Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:
Ничего себе, но у меня лучше!
При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.
Такой фонарь,- убеждал Гришка,- в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!
Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?
Свои опасения поведал матери. Она успокоила.
В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому,- в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила!
Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.
Тихо-то как! - заметил матери. Она призадумалась и вздохнула:
В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..
Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.
От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.
Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».
Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный,- и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь... После ектений, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся»,- на клиросе запели, как бы одним рыданием:
«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».
У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете,- световидные и милостивые.
Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря вынесли тяжелое, в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.
С неутомимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия «Слава страстем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже живое и настороженное.
Во время каждения читались слова, как бы от имени Самого Христа.
«Людие мои, что сотворих вам, или чем вам стужих, слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие мои, что сотворих вам и что ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити мя, ко кресту мя пригвоздиша».
В этот вечер, до содрогания близко, видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали, и как Он прощался с Матерью.
«Слава долготерпению Твоему, Господи».
После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен».
«Разбойника благоразумного во единем часе раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и спаси».
С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни - идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много звезд.
- Может быть, и там... кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?
Плащаница
Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.Будут стужи и метели,- зябко уверял нищий Яков, сидя у печки,- река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!
По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь,- чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.
Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху?- спросил меня Яков.- Не знаешь. «Светозар-День». Хорошие слова были у стариков. Премудрые!
Он опустил голову и вздохнул:
Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!
Хорошо-то оно хорошо,- размышлял я,- но жалко! Все же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей... посмотреть, как солнце играет... яйца покатать, в колокола потрезвонить!..
В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать... А Он будет утешать Ее словами:
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе... Возстану бо и прославлюся...
Рядом со мною стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.
Ты что такой мазаный? - спросил его. Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:
Десяток яиц выкрасил!
У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! - указал Витька.
Да ну!? Поплюй и вытри!
Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и еще пуще размазал его.
Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.
Иди, вымойся,- шепнул я ему,- нет сил смотреть на тебя. Стоишь, как зебра!
На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют птицы и по реке ходит колышень:
«Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу Плащаницы.
Едва слышным озерным чистоплеском трогательно и нежно запели. «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».
От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.
Смущенный и красный, прикоснулся Свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.
Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почетные в городе люди, и я подумал:
Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!
Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все понятно, и без того больно».
Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».
Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели:
«Приидите, ублажим Иосифа Приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего... Даждь ми сего страннаго, его же ученик лукавый на смерть предаде»...
В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова:
«Поклоняемся Страстем Твоим Христе и святому Воскресению».
Канун Пасхи
Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе «Двунадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное... Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась.
Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!
Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца!
Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:
Почему люди спят, когда рань так хороша?
Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно,- сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее.
Тять! На том свете мы все вместе будем?
Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причем крепко взял меня за руку):
Много будешь знать, скоро состаришься! - а про себя прошептал со вздохом: «Расстанная наша жизнь!»
Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:
«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказаннаго и неизреченного терпения!»
«Под землею скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейте Спасе».
Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны».
«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде Свет солнца».
«В одежду поругания, украситель всех, облекавши, иже небо утверди и землю украси чудно!»
С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе показавшему нам Свет» запели «великое славословие» - «Слава в вышних Богу»...
Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.
При пении похоронного, «с завоем»,- «Святый Боже», при зажженных свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.
На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая,- скоро она совсем пропитается солнцем...
Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.
Я услышал, как кто-то шепнул другому:
Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник, сюртуке Семиградский, с большою книгою в дрожащих руках, подошел к Плащанице. Всегда темное лицо его, с тяжелым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.
Широким, крепким раскатом он провозгласил:
«Пророчества Иезекиилева чтение»...
С волнением, и чуть ли не со страхом, читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось - как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и... встал перед ним «велик собор» восставших из гробов...
С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду,- самую большую и красивую, из красного стекла,- мы затеплим перед пасхальной заутреней.
Если не устал,- сказала мать, приготовляя творожную пасху («Ах, поскорее бы разговенье! - подумал я, глядя на сладкий соблазный творог»),- то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!
На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:
- Завтра Пасха! Пасха Господня!
– Ну, Господь тебя простит, сынок… Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено, – напутствовала меня мать к исповеди.
– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.
Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:
– Простите меня, Христа ради!
На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.
Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.
– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.
– Исповедаться! – важно ответил я.
– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой мучеником»,– осклабился дворник. На это я буркнул: ладно!
Мои приятели – Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.
Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.
– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька.– В пальто новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая!
– А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:
– Сапожные шпильки!
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник… Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь!
Гудят печальные великопостные колокола.
– Вот ужо… после исповеди, я Котьке покажу! – думаю я, подходя к церкви.
Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «Великого повечерия». С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:
– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!
Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.
– Одежду и сапоги измызгаешь, – вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всем новом!
– И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвизались три святолепных старца, – рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож.– Молились, постились и трудились… да… трудились… А кругом одна пустыня…
Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.
– Васька! И ты исповедаться? – раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загривку.
– Пойдем сыгранем в орла и решку, а? – упрашивает меня Витька, показывая пятак.
– С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!
– И вот пошли три старца в един град к мужу праведному, – продолжает дядя Осип.
Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»

Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках.
– Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? – ласково спрашивает меня.
Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:
– Не… у нас полка высокая!..
И когда спросил он меня «какие же у тебя грехи?», я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод.
«Вот, вот,– встревожился я, – сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия…»
И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: кайся!
Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.
– Батюшка…– произношу сквозь всхлипы,– я… я… в Великом посту… колбасу трескал! Меня Витька угостил. Я не хотел… но съел!..
Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова.
Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично.
– Ты что?
– Батюшка! У меня еще один грех. Забыл сказать его… Нашего дворника Давыда я называл «подметалой-мучеником»…
Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви, с сердцем ясным и легким, и чему-то улыбался.
Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному, напевает: «Волною морскою, скрывшего древле». А за окном шумит радостный весенний дождь…
Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения.
– Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!
– И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал! А кругом рай Господень и радость несказанная!