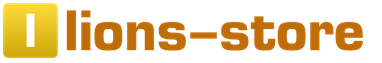Добрый человек из сезуана таганка отзывы. Добрый человек из сычуани
ИЗ ИСТОРИИ СПЕКТАКЛЯ
Премьера: 23 апреля 1964 г.
Пьеса-притча в 2-х действиях
режиссёр Юрий Любимов
С «Доброго человека…» все было неположено
Рассказы старого трепачаКогда студенты спели «Зонг о баранах»:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,
и второй зонг особенно:
Власти ходят по дороге…
Труп какой-то на дороге.
«Э! Да это ведь народ!»
Эти два зонга я смонтировал, у Брехта они разные. Публика стала топать ногами и орать: «Пов-то-рить! Пов-то-рить! Пов-то-рить!» - и так минут пять, я думал, училище развалится.
Я перепугал всех и первым я перепугал Юзовского - он был одним из переводчиков «Доброго человека…». В свое время он был проработан сильно - как космополит: выгнан с работы … И очень образно об этом рассказывал: «Первым умер телефон», - никто не звонил.
И тут он так испугался, что прижал меня в угол, весь бледный, трясется: «Вы ничего не понимаете, вы безумный человек, вы знаете, что с вами сделают - вы даже не представляете! Если вы не уберете эти зонги, то хоть снимите мое имя с афиши, чтобы не было видно, что это мой перевод!…» На меня это произвело очень сильное впечатление: человек старше меня, очень уважаемый - и такой страх. Так же был напуган властями и Шостакович - смертельно их боялся.
А Захава был просто предельно расстроен. Он испугался, что это антисоветчина, что сейчас закроют училище. И ему не понравилось… Хотя странно. Bедь до этого кафедре я показывал отрывок на сорок минут, и кафедра хлопала, что бывает не так часто. Значит, что-то они почувствовали. Но когда я показал все, то реакция была - закрыть спектакль.
Потом начались проработки внутри училища и решили: «закрыть спектакль как антинародный, формалистический» - за подписью Захавы. Но, слава Богу, появилась хорошая рецензия в «Неделе» - и я ждал, когда она выйдет. Захава позвонил в газету и сказал, что училище этот спектакль не принимает и что рецензию надо убрать. Но он позвонил поздно, уже печать шла. А в это время началось долгое заседание по проработке, меня вызвали.
Но меня предупредили, что идет уже печать, и сказали:
Ты можешь потянуть время?
Я говорю:
Как я могу потянуть?
Ну, пока печатают. Подольше там разбирайте все это дело.
По-моему, там работала Нателла Лордкипанидзе. Потом был перерыв покурить, и мне принесли номер газеты горяченький. И, когда началось заседание, я стал читать. Меня одернули: «вас прорабатывают, а вы что-то читаете».
Извините, - и пустил «Неделю» по рукам прорабатывающих. Тогда опять стали говорить:
Теперь вы читаете, надо же прорабатывать, а не читать.
Короче говоря, газета пришла к Захаве, по кругу. Он говорит:
Что вы там все читаете? Что там? И кто-то говорит:
Да вот тут его хвалят, говорят, что это интересно, замечательно. Получается, что мы не правы в проработке…
Это была комната, где собиралось партийное бюро в училище, класс какой-то. Там присутствовало человек пятнадцать-двадцать. Но они, бедные, пришли потому, что им нельзя было отказываться. Даже кто-то из театра был. Там были высшие чины: и Толчанов, и Захава, и Цецилия (Мансурова). Захава был против, Толчанов поддержал Захаву:
Мы это проходили.
А я сказал:
Вот именно! Вы и прошли мимо, поэтому и застряли в болоте своего реализма.
Да это никакой не реализм, а просто мартышкин труд.
Ведь получилось так, что спектакль был показан на публике, как это принято, а Москва есть Москва - откуда узнали, непонятно, но, как всегда бывает, - не удержишь. Сломали двери, сидели на полу. Набилось в этот небольшой зал в Щукинском училище в два раза больше людей, чем было мест, и боялись, что училище рухнет.
Я помню, первый раз я поразился, когда они нас всех созвали - еще был Рубен Николаевич, - чтобы закрывать «Современник». И все «Голого короля» разбирали: кто голый король, а кто премьер - это при Хрущеве было. И до того доразбирались, что закрыли заседание, потому что не могли понять - если Хрущев голый король, то кто же тогда премьер-министр? Значит, Брежнев? Ассоциативная галиматья довела их до того, что они испугались и прикрыли это заседание, судилище «Современника». Но хотели они закрывать театр нашими руками, чтобы мы осудили.
И у меня было то же самое - первая-то проработка была на кафедре. Мои коллеги не хотели выпускать «Доброго человека …» и не хотели засчитывать это студентам как дипломный спектакль. И только потом появилась пресса благоприятная, и на спектакль позвали рабочих заводов «Станколит», «Борец», интеллигенцию, ученых, музыкантов - и они меня очень поддержали. Рассчитывали именно руками рабочих меня задушить, а им понравился «Добрый человек…», там много было песен-зонгов, ребята очень хорошо их исполняли, рабочие хлопали и поздравляли тех, кто хотел закрыть спектакль, говорили: «Спасибо, очень хороший спектакль!» - и те как-то сникли. А в это время появилась в «Правде» хорошая заметка Константина Симонова.
Вот. Ну и отбивался я очень сильно. Так что у кого какая судьба. А у меня судьба такая: все время я отбивался.
И все-таки я считаю, что тогда Брехт по-настоящему до конца не был сделан, потому что студенты не осознавали, то есть просто делали, как я сказал. Ведь этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали - уж если говорить правду - что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем - я порвал связки и ходил с ним.
Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: «Да пошли они … плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!» Вот правда. Вот это правда. Остальное все приукрашено сильно.
До этого я как педагог ставил маленькие отрывки с разными студентами. С Андреем Мироновым я ставил «Швейка» - Лукаша-поручика, где он пьяный, его со Швейком дебаты. У меня и тогда была теория: нужно обязательно сделать отрывок студенту - минут на пятнадцать - чтобы он мог показываться, чтобы его приняли на работу. Поэтому надо сделать весело и интересно.
И это было легендой училища - его приняли во все театры с этим отрывком, кроме Вахтанговского. Я даже удивился, Рубену Николаевичу говорю:
Почему же, Рубен Николаевич, вы его не приняли? - но он как-то так уклончиво ответил.
Так же как я делал отрывок из Чехова с Волковым, с Охлупиным - знаменитые теперь артисты. Почему я помню, потому что и тут меня тоже стали прорабатывать на кафедре, что Чехова так нельзя ставить. Я ставил рассказ о докторе, который приезжает к больному - одни капризы видит, - а у него дома умирает ребенок.
Я там даже один акт «Дней Турбинных» делал. Я сделал отрывка два-три из «Страха и смятения. ..». После «Доброго человека…» я больше не преподавал.
Я прочел в журнале перевод Юзовского и Ионовой. И мне это показалось очень интересным, трудным и странным, потому что мало знал о Брехте. Просто мало знал.
Для Москвы это была необычная драматургия. Брехт ставился очень мало, и Москва плохо знала его. Я не видел «Берлинер ансамбля» и был совершенно свободен от влияния. Значит, делал его интуитивно, свободно, без давления традиций Брехта. Я почитал, конечно, о нем, его произведения, его всякие наставления. Но все равно, хорошо, что я не видел ни одного спектакля. Я видел потом и «Артура Уи», и «Галилея», и «Кориолана», «Мать» по-брехтовски, потом, «Покупка меди» - это такой дискуссионный спектакль. Очень интересно. Я даже хотел это ставить.
И потому что я не видел ничего Брехта, я был чист и получился такой русский вариант Брехта. Спектакль был таким, как мне подсказывала моя интуиция и мое чутье. Я был свободен, я никому не подражал. Я считаю, что все-таки я им принес новую драматургию в училище: я имею в виду Брехта. Потому что мне казалось, что само построение брехтовской драматургии, принципы его театра - безусловно театра политического, как-то заставят студентов больше увидеть окружающий мир и найти себя в нем, и найти свое отношение к тому, что они видят. Потому что без этого нельзя сыграть Брехта. Потом, я все-таки сумел поломать канон в том смысле, что обычно диплом сдастся на четвертом курсе, а я убедил разрешить моим студентам сдать диплом на третьем курсе. Это было очень тpyдно cдeлать, мне понадобилось убедить кафедру. Они разрешили мне показать фрагмент на тридцать-сорок минут, и если их этот фрагмент удовлетворит, то они разрешат мне сделать диплом.
А сейчас это совершенно спокойно дают даже моим ученикам, уже Сабинин ставит один за одним дипломные спектакли, и все они профессора, доценты. А я был каким-то рядовым педагогом, получал рубль в час Обучать в шоферы брали - я думал даже зарабатывать, обучая, - три рубля в час И когда мне предложили Таганку после этого «Доброго…», то я так с улыбкой говорил: «Да ведь в общем-то вы мне предлагаете триста рублей, а я шутя зарабатываю и в кино, и на телевидении, и на радио рублей шестьсот, а вы так говорите: вот вам зарплата будет триста рублей», - сразу я в конфликт вошел с начальством. Я же им представил тринадцать пунктов перестройки старого театра.
Москва - удивительный город - там все все узнают по слухам. Разнесся слух, что готовится какой-то интересный спектакль. А так как всем скучно, и дипломатам тоже, раз что-то интересное, значит, будет скандал. Как говорил покойный мой друг Эрдман, что «если вокруг театра нет скандала, то это не театр». Значит, в этом смысле он был пророком в отношении меня. Так и было. Ну и скучно, и все хотят приехать, посмотреть, и знают, что если это интересно, то это закроют. Поэтому спектакль долго не могли начать, публика ворвалась в зал. Эти дипломаты сели на пол в проходе, вбежал пожарник, бледный директор, ректор училища, сказал, что»он не разрешит, потому что зал может обвалиться. В зале, где мест на двести сорок человек, сидит около четырехсот - в общем, был полный скандал. Я стоял с фонарем - там очень плохая была электрика, и я сам стоял и водил фонарем. В нужных местах высвечивал портрет Брехта. И я этим фонарем все водил и кричал:
Ради Бога, дайте продолжить спектакль, что вы делаете, ведь закроют спектакль, никто его не увидит! Чего вы топаете, неужели вы не понимаете, где вы живете, идиоты!
И все-таки я их утихомирил. Но, конечно, все записали и донесли. Ну, и закрыли после этого.
Они спасали честь мундира. Кончилось это плачевно, потому что пришел ректор Захава и стал исправлять спектакль. Студенты его не слушали. Тогда он вызвал меня. У меня было там условное дерево из планок. Он сказал:
С таким деревом спектакль не пойдет, Если вы не сделаете дерево более реалистичным, я допустить это не могу.
Я говорю:
Я прошу мне подсказать, как это сделать. Он говорит:
Ну, хотя бы вот эти планки, ствол заклейте картонкой. Денег у нас нет, я понимаю. Нарисуйте кору дерева.
А можно я пущу по стволу муравьев?
Он взбесился и говорит:
Уйдите из моего кабинета.
Так я и воевал. Но молодые студенты меня все-таки слушались. Ну, ходили некоторые на меня жаловаться, на кафедру, что я разрушаю традиции русского реализма и так далее, и так далее.
Мне было это интересно, потому что я ставил для себя все время новые задачи. Мне казалось, что иногда Брехт чересчур назидателен и скучен. Предположим, сцена фаб?рики мной поставлена почти что паптомимически. Там минимум текста. А у Брехта это огромная текстовая сцена. Я немножко перемонтировал пьесу, сильно сократил. Сделал один зонг на текст Цветаевой, любовные ее стихи:
Вчера еще в глаза глядел,
Равнял с китайскою державою,
В раз обе рученьки разжал,
Жизнь выпала копейкой ржавою…
А остальные были все брехтовские, хотя я взял несколько других зонгов, не к этой пьесе.
Декораций почти что не было, они потом остались те же, я взял их из училища в театр, когда образовалась Таганка. Там были два стола, за которыми учились студенты, - из аудитории - денег нe было, декорации делали мы сами: я вместе со студентами.
Но был все-таки портрет Брехта справа - очень удачно художник Борис Бланк нарисовал. И сам он похож очень на Брехта - прямо как будто они близнецы с Брехтом. Потом, когда портрет стал старым, он пытался несколько раз переписать его, но все время выходило плохо. И мы все время сохраняли этот портрет: его зашивали, штопали, подкрашивали. И так он жил все 30 лет. Все новые, которые Бланк пытался делать, не получались - судьба.
Я занимался очень много пластикой, ритмом, а студентам казалось, что это идет в ущерб психологической школе Станиславского. К сожалению, система Станиславского в школьных программах очень сужалась, он сам был гораздо шире, и сведение системы только к психологической школе очень обедняет ремесло, снижает уровень мастерства.
Открывая для себя драматургию Брехта, я искал и новые приемы работы со студентами - я поставил дипломный спектакль на третьем курсе, чтоб они могли еще целый год встречаться со зрителем и играть. И они фактически весь этот год учились разговаривать с публикой. Потому что Брехт без диалога со зрителем, по-моему, не возможен. Это, в общем, помогло во многом развитию всего театра, потому что тогда это были новые приемы для школы и для студентов.
Новая форма пластики, умение вести диалог со зрительным залом, умение выходить к зрителю… Полное отсутствие четвертой стены. Но тут ничего особенно нового. Теперь каждый по-своему понимает знаменитый брехтовский эффект отчуждения. О нем целые тома написаны. Когда ты как бы со стороны… Вне характера.
У Дидро в «Парадоксе об актере» в каком-то смысле та же идея, но только у Брехта она еще оснащена очень сильно политической окраской, позицией художника в обществе. «Парадокс об актере» сводится к двойственному, что ли, пребыванию, двойственным ощущениям актера, его раздвоенности на сцене. А у Брехта еще есть момент, когда ему очень важна позиция актера вне образа, как гражданина, его отношение к действительности, к миру. И он находит возможным, чтоб актер в это время как бы выходил из образа и оставлял его в стороне.
Господи, как только начнешь вспоминать, так сразу идет целая цепь ассоциаций. С книгой «Парадокс об актере» умер Борис Васильич Щукин - мой учитель. Когда сын утром вошел к нему, он лежал мертвый с открытой книгой Дидро. Еще мне в связи с этим вспомнилась книга, которую я читал молодым человеком: «Актриса» - братьев Гонкур. Там есть очень хорошее наблюдение: когда она стоит перед умершим близким, любимым ею человеком, она испытывает глубокое горе, и в то же время она ловит себя на страшной мысли: «Запоминай, вот как на сцене надо играть такие вещи». Это очень интересное наблюдение. Я начинал учиться на актера и потом сам часто ловил себя на подобном же.
Работая со студентами, я всегда много показывал, всегда искал выразительность мизансценическую. И разрабатывал точно рисунок и психологический, и внешний. Очень следил за выразительностыо тела. И все время учил их не бояться идти от внешнего к внутреннему. И часто верная мизансцена им потом давала верную внутреннюю жизнь. Хотя, конечно, тенденция у них была сделать наоборот: идти от внутреннего к внешнему? Это главная заповедь школы: почувствовать, ощутить внутри жизнь человеческого духа. Но и я считаю, что главное - это жизнь человеческого духа, только надо найти форму театральную, чтоб эта жизнь человеческого духа могла свободно проявляться и иметь безукоризненную форму выражения. А иначе это актера превращает в дилетанта. Он не может выразить свои чувства, у него не хватает средств: ни дикции, ни голоса, ни пластики, ни ощущения себя в пространстве. Я считаю, что и сейчас очень плохо учат актера понимать замысел режиссера. Все основные конфликты между актером и режиссером происходят оттого, что актера мало интересует весь замысел. Но и режиссер обязан сделать общую экспликацию своего замысла. И мы знаем блестящие экспликации Мейерхольда, Станиславского, Вахтангова.
Может, я дохожу до парадокса, но я считаю, что любой знаменитый спектакль в истории театра можно очень точно описать, как он сделан, как решен: светово, сценографически, пластически. Я могу вам рассказать какие-то спектакли, которые произвели на меня сильное впечатление. Я помню все мизансцены, я помню трактовку ролей, пластику того же Оливье в «Отелло». Так же как мы все помним пластику Чаплина, его тросточку, котелок, походку.
Были конкурсы Чаплина, где сам Чаплин занял восьмое место.
То есть я люблю такой театр. И поэтому я и дохожу, что ли, до предела, когда говорю, что я не вижу особенной разницы в работе балетмейстера и в работе режиссера. Только хореографа хорошего слушают, а драматические артисты без конца дискуссии ведут с режиссером. Это, что ли,
модно, - не понимаю. Они беспрекословно отдают себя в руки в телевидении, на радио, в кинематографе. Но вот где они могут, наконец, отвести душу, спорить, дискуссировать, все время говорить о коллективном творчестве и так далее - это в театре. Значит, берут реванш. Это как в замечательном фильме «Репетиция оркестра» Феллини, все время идет борьба между дирижером и оркестром. Оркестр все время провоцирует дирижера, испытывает его крепость, а дирижер ищет и старается поставить на место оркестр, испытывая уровень оркестра. Это такой взаимный экзамен друг друга. Так и происходит при встрече актера и режиссера всегда - такой идет happening, игра. Но до определенного предела. Потому что кто-то должен взять палочку дирижера и начать дирижировать.
«Добрый человек…» имел резонанс огромный. И потянулись все. Приходили поэты, писатели. Мы же умудрились сыграть «Доброго человека…», несмотря на запрет кафедры, и в Доме кино, в Доме писателей, у физиков в Дубне. В Театре Вахтангова пять раз сыграли. Нам разрешили, потому что спектакль шел с таким успехом, к тому же мой однокашник и старый друг по училищу; даже еще по Второму МХАТу, Исай Спектор был коммерческий директор театра, практичный человек, а Театр Вахтангова в это время был на гастролях. И там сломали двери. А меня послали играть спектакль выездной, хотя в нем был и другой исполнитель. И я не видел, как прошли эти спектакли на Вахтанговской сцене. Я пришел на последний, по-моему. И только потом мне передали, что был Микоян и сказал фразу: «О! Это не учебный спектакль, это не студенческий спектакль. Это будет театр, и весьма своеобразный». Так что вот видите, член Политбюро разобрался.
В первый раз в жизни я очень точно сформулировал Управлению культуры свои тринадцать пунктов, что мне необходимо для того, чтобы был создан театр. Я понимал, что меня старый театр перемелет, обратит меня в фарш - ничего не останется. Я погрязну в дрязгах старой труппы. Я понимал, что все надо делать сначала, начинать с нуля. И поэтому я дал им эти пункты, И они долго размышляли, утвердить меня или не утвердить.
Я привел с собой студентов с этого курса… Даже двух доносчиков, которые писали про меня, что я разрушаю систему Станиславского. И не потому, что я такой благородный. Мне просто не хотелось снова вводить двух артистов и терять время. Студенты были весьма разные. Это не была идиллия, что репетируют в упоении педагог и хорошие студенты.
Как я ставил «Доброго человека…»? - Я буквально вколачивал костылем ритм, потому что я порвал себе связки на ноге, и не мог бегать показывать, и я с костылем работал. Было очень нелегко добиться понимания формы. Студенты чувствовали, что что-то не так, то есть их не так учили, как я с ними работал.
Получив разрешение взять «Доброго человека…» и десять человек с курса в театр, я понял, что мне нужно. Я снял весь старый репертуар, оставил только Пристли одну пьесу, потому что она более-менее делала сборы, хотя спектакль мне не нравился.
Мы не могли каждый день играть «Доброго человека…», хотя он делал аншлаги. И поэтому я сразу запустил две работы - сначала неудачную «Герой нашего времени», потом понял, что он мне не помогает, - и сразу запустил «Антимиры» и «Десять дней…».
Я тогда увлекался Андреем Вознесенским, его стихами и стал делать «Антимиры» как поэтический спектакль, который потом шел очень долго. И тогда меня порадовала публика Москвы. Во-первых, мне многие говорили, что не придет зритель на Таганку, - он пришел. Он пришел на «Доброго…», он пришел на «Павших. ..», он пришел на «Десять дней…», он пришел на «Антимиры». И таким образом я выиграл время. Советское начальство всегда дает год хотя бы… раз они назначили, они оставляли в покое на год. Просто у них были такие ритмы жизни, что пару лет пусть работает, а там посмотрим. А я как-то быстро обернулся очень. В год я миновал пороги и получил репертуар: «Добрый…», «Десять дней…», «Антимиры», после длительной борьбы «Павшие. ..» остались в репертуаре - уже четыре спектакля, И на
них я мог опереться. Правда, я не думал, что так быстро меня начнут прорабатывать. Уже «Десять дней…» начальство приняло так… хоть и революция, пятое-десятое, но с неудовольствием. Но они все-таки были отброшены успехом - вроде революционная тема и такой успех. Ну, и пресса… «Правда» пожурила, но, в общем, одобрила. А уж потом-то они стали, ругая «Мастера», говорить: «Как мог человек, который поставил „Десять дней… “ - и так у меня все время было, - как мог этот человек, который поставил вот то-то, поставить это безобразие?» - «Дом…», предположим, или Маяковского и так далее.
Р. S. Вот видишь, сын мой, папе те правители все-таки дали год на раскрутку, а царь Борис своих премьеров в один год раза четыре меняет!
Без даты.
Когда все было готово и можно было назначить премьеру, как-то так совпало, что день рождения Ленина, а следующий - день рождения Шекспира, наш день … И стал я провозглашать, что только благодаря ХХ съезду такой театр мог появиться. А до ХХ съезда - нет. А когда стали забывать ХХ съезд, то я очутился без спасательного круга и стал тонуть.
Но до конца не утонул. И я согласен с тем, как это объяснил Петр Леонидович Капица: «Я очень волновался за вашу судьбу, Юрий Петрович, - до тех пор, пока не понял, что вы - Кузькин. А когда я понял, что вы все-таки Кузькин в какой-то мере, то перестал волноваться».
У них была золотая свадьба, и была такая очень элитарная публика, ученые, академики, и все говорили, что-то такое торжественное - золотая свадьба, восседала Анна Алексеевна с Петром Леонидовичем, и я принес золотую афишу «Мастер и Маргарита» - там же по главам сделана афиша, и я к каждой главе дал комментарий про Петра Леонидовича.
Мне тоже нужно было какой-то спич произносить, и я сказал, что неудивительно, что я Кузькин, а вот что Петр Леонидович должен быть Кузькиным в этой стране, чтобы выжить, это удивительно. Анна Алексеевна очень обиделась:
Как вы можете, Юрий Петрович, называть Петра Леонидовича Кузькиным?
И вдруг Петр Леонидович встал и говорит:
Молчи, крысик (Он вceгдa ее так называл.) Да, Юрий Петрович, вы правы, я тоже Кузькин.
P. S. Кузькин - герой прекрасной повести Б. Можаева, что-то вроде швейка на русский манер.
Бертольд Брехт
Философская пьеса-притча
Перевод с немецкого Ю. Юзовского
и Е. Ионовой
, стихи в переводе Б. Слуцкого
Режиссёр – Юрий Любимов
Музыка – Анатолий Васильев, Борис Хмельницкий
«Добрый человек их Сезуана» – наш первый спектакль, с него начался Театр на Таганке. Он стал символом и талисманом Театра, не сходит со сцены больше полувека, и эта необыкновенно долгая жизнь спектакля продолжается вовсе не потому, что мы бережём его как талисман. Никогда Юрий Любимов не держался за спектакль, если считал его неактуальным, устаревшим, если его переставали понимать и воспринимать (хотя такого в его работе не было) зрители.
Итак, пьеса о доброте, посвящена утверждению доброты – врожденного, по мнению Брехта, свойства человека.
Боги спустились на землю и безуспешно ищут хотя бы одного доброго человека. Надо найти, если не найдут, то этому миру существовать не стоит. И наконец находят – проститутку Шен Те, человека, который не может сказать «нет».
Брехт считал, что есть человеческие категории, которые возможно изобразить и объяснить лишь в форме мифа, символа, в жанре пьес-притч. Такова имманентная и неодолимая доброта героини – Шен Те. Но куда она приведет её, возможно ли вообще в окружающем нас мире воплощение доброты, что означает и почему существует двойственность души, как человек вынужден защищать себя – на эти вопросы пробуют ответить или задать их автор пьесы и спектакль.
На сцене положения и персонажи, известные каждому, почти бытовые, узнаваемые сразу. А боги и вовсе – смешная троица в современных костюмчиках, которая ищет ночлег. И это боги, которым предстоит решить судьбу мира, в котором – мы увидим – что для человека погибель, а что спасение.
Открывая драматургию Брехта, Любимов искал особые приёмы работы с артистами – они учились разговаривать с публикой, потому что у Брехта есть положения, когда автору очень важна позиция актёра вне образа, его собственное отношение к действительности, актёр в это время из образа выходит, оставляя его в стороне. Эти принципы брехтовского театра были по нутру Любимову и должны были, по его мнению, расширить кругозор и артиста, и зрителя, заставить думать и понимать что-то вокруг себя. В дальнейшем они заняли прочное место в художественной концепции Театра на Таганке, очертив его эстетическое пространство и способ разговора со зрителем, а также выбор тем - человеческое сердце, душа, отношения с миром, любовь… А тогда, в 60-е – годы несбывшихся надежд, поражало вообще само присутствие этого разговора, в других театрах не принятое. Зал вовлекается в действие, он не просто смотрит представление, переживает и сопереживает, но участвует.
В этом спектакле никто никем не притворяется, никого не водят за нос, не поучают. Здесь всё условно и всё по-настоящему. Ведь искусство театра – это не приближение к жизни и не притворное подражание ей, но иное, осмысленное, вновь созданное, больше того – создаваемое прямо на глазах художественное полотно.
Условность на сцене превращается в абсолютную достоверность, воспринимаемую непосредственно. Метафора перекрывает любую похожесть, воздействует на чувства, и действие - прямое. Боги чудные, дерево из планок, фабрика изображается хлопками в ладони, а душа рвется на две свои непримиримые и неразрывные части, и все это вызывает самые настоящие чувства и мысли, и сострадание, и слёзы, и страх.
Действующие лица и исполнители:
1-й БОГ - Алексей Граббе
2-й БОГ - Эрвин Гааз / Александр Марголин
3-й БОГ - Никита Лучихин
ШЕН ТЕ - ШУИ ТА - Мария Матвеева / Галина Володина
ЯНГ СУН, безработный лётчик - Иван Рыжиков
ГОСПОЖА СУН, его мать - Лариса Маслова
ВАНГ, водонос - Владислав Маленко / Дмитрий Высоцкий
ШУ ФУ, цирюльник - Тимур Бадалбейли / Игорь Пехович
МИ ТЦИ, домовладелица - Анастасия Колпикова / Маргарита Радциг
ГОСПОЖА ШИН - Татьяна Сидоренко
ПОЛИЦЕЙСКИЙ - Константин Любимов
ЛИН ТО, столяр - Сергей Цимбаленко
ЖЕНА - Полина Нечитайло
МУЖ - Сергей Трифонов
БРАТ ВУНГ - Александр Фурсенко
НЕВЕСТКА - Екатерина Рябушинская
ДЕД - Виктор Семёнов / Роман Стабуров /
Игорь Пехович
МАЛЬЧИШКА - Алла Смирдан / Александра Басова
ПЛЕМЯННИЦА -
ПЛЕМЯННИК - Александр Фурсенко (мл)
ТОРГОВЕЦ КОВРАМИ - Сергей Ушаков
ЕГО ЖЕНА - Юлия Куварзина / Марфа Кольцова
БЕЗРАБОТНЫЙ - Филипп Котов / Сергей Цимбаленко
СТАРАЯ ПРОСТИТУТКА - Татьяна Сидоренко
МОЛОДАЯ ПРОСТИТУТКА - Марфа Кольцова / Юлия Стожарова
СВЯЩЕННИК - Александр Фурсенко (мл)
МУЗЫКАНТЫ - Анатолий Васильев, Михаил Лукин
Главный город провинции Сычуань, в котором обобщены все места на земном шаре и любое время, в которое человек эксплуатирует человека, - вот место и время действия пьесы.
Пролог. Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль: так дальше продолжаться не может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым! И обеспокоенные боги постановили: мир может оставаться таким, как есть, если найдётся достаточно людей, способных жить достойной человека жизнью. А чтобы проверить это, три виднейших бога спускаются на землю. Быть может, водонос Ван, первым встретивший их и угостивший водой (он, кстати, единственный в Сычуани, кто знает, что они боги), достойный человек? Но его кружка, заметили боги, с двойным дном. Добрый водонос - мошенник! Простейшая проверка первой добродетели - гостеприимства - расстраивает их: ни в одном из богатых домов: ни у господина Фо, ни у господина Чена, ни у вдовы Су - не может Ван найти для них ночлег. Остаётся одно: обратиться к проститутке Шен Де, она ведь не может отказать никому. И боги проводят ночь у единственного доброго человека, а наутро, распрощавшись, оставляют Шен Де наказ оставаться такой же доброй, а также хорошую плату за ночлег: ведь как быть доброй, когда все так дорого!
I. Боги оставили Шен Де тысячу серебряных долларов, и она купила себе на них маленькую табачную лавку. Но сколько нуждающихся в помощи оказывается рядом с тем, кому улыбнулась удача: бывшая владелица лавки и прежние хозяева Шен Де - муж и жена, её хромой брат и беременная невестка, племянник и племянница, старик дедушка и мальчик, - и всем нужна крыша над головой и еда. «Спасенья маленькая лодка / Тотчас же идёт на дно. / Ведь слишком много тонущих / Схватились жадно за борта».
А тут столяр требует сто серебряных долларов, которые не заплатила ему прежняя хозяйка за полки, а домовладелице нужны рекомендации и поручительство за не слишком респектабельную Шен Де. «За меня поручится двоюродный брат, - говорит она. - И за полки расплатится он же».
II. И наутро в табачной лавке появляется Шой Да, двоюродный брат Шен Де. Решительно прогнав незадачливых родственников, умело вынудив столяра взять всего двадцать серебряных долларов, Предусмотрительно подружившись с полицейским, он улаживает дела своей слишком доброй кузины.
III. А вечером в городском парке Шен Де встречает безработного лётчика Суна. Лётчик без самолёта, почтовый лётчик без почты. Что ему делать на свете, даже если он прочёл в пекинской школе все книги о полётах, даже если он умеет посадить на землю самолёт, точно это его собственный зад? Он как журавль со сломанным крылом, и нечего ему делать на земле. Верёвка наготове, а деревьев в парке сколько угодно. Но Шен Де не даёт ему повеситься. Жить без надежды - творить зло. Безнадёжна Песня водоноса, продающего воду во время дождя: «Гром гремит, и дождик льётся, / Ну, а я водой торгую, / А вода не продаётся / И не пьётся ни в какую. / Я кричу: „Воды купите!“ / Но никто не покупает. / В мой карман за эту воду / Ничего не попадает! / Купите воды, собаки!»
И Шен Де покупает кружку воды для своего любимого Ян Суна.
IV. Возвращаясь после ночи, проведённой с любимым, Шен Де впервые видит утренний город, бодрый и дарящий веселье. Люди сегодня добры. Старики, торговцы коврами из лавки напротив, дают милой Шен Де в долг двести серебряных долларов - будет чем расплатиться с домовладелицей за полгода. Человеку, который любит и надеется, ничто не трудно. И когда мать Суна госпожа Ян рассказывает, что за огромную сумму в пятьсот серебряных долларов сыну пообещали место, она с радостью отдаёт ей деньги полученные от стариков. Но откуда взять ещё триста? Есть лишь один выход - обратиться к Шой Да. Да, он слишком жесток и хитёр. Но ведь лётчик должен летать!
Интермедии. Шен Де входит, держа в руках маску и костюм Шой Да, и поёт «Песню о беспомощности богов и добрых людей»: «Добрые у нас в стране / Добрыми не могут оставаться. / Чтобы добраться с ложкою до чашки, / Нужна жестокость. / Добрые беспомощны, а боги бессильны. / Почему не заявляют боги там, в эфире, / Что время дать всем добрым и хорошим / Возможность жить в хорошем, добром мире?»
V. Умный и осмотрительный Шой Да, глаза которого не слепит любовь, видит обман. Ян Суна не пугают жестокость и подлость: пусть обещанное ему место - чужое, и у лётчика, которого уволят с него, большая семья, пусть Шен Де расстанется с лавкой, кроме которой у неё ничего нет, а старики лишатся своих двухсот долларов и потеряют жилье, - лишь бы добиться своего. Такому нельзя доверять, и Шой Да ищет опору в богатом цирюльнике, готовом жениться на Шен Де. Но разум бессилен, где действует любовь, и Шен Де уходит с Суном: «Я хочу уйти с тем, кого люблю, / Я не хочу обдумывать, хорошо ли это. / Я не хочу знать, любит ли он меня. / Я хочу уйти с тем, кого люблю».
VI. В маленьком дешёвом ресторане в предместье готовятся к свадьбе Ян Суна и Шен Де. Невеста в подвенечном наряде, жених в смокинге. Но церемония все никак не начнётся, и бонза посматривает на часы - жених и его мать ждут Шой Да, который должен принести триста серебряных долларов. Ян Сун поёт «Песню о дне святого Никогда»: «В этот день берут за глотку зло, / В этот день всем бедным повезло, / И хозяин и батрак / Вместе шествуют в кабак / В день святого Никогда / Тощий пьёт у жирного в гостях. / Мы уже не в силах больше ждать. / Потому-то и должны нам дать, / Людям тяжкого труда, / День святого Никогда, / День святого Никогда, / День, когда мы будем отдыхать».
«Он уже никогда не придёт», - говорит госпожа Ян. Трое сидят, и двое из них смотрят на дверь.
VII. На тележке около табачной лавки скудный скарб Шен Де - лавку пришлось продать, чтобы вернуть долг старикам. Цирюльник Шу Фу готов помочь: он отдаст свои бараки для бедняков, которым помогает Шен Де (там все равно нельзя держать товар - слишком сыро), и выпишет чек. А Шен Де счастлива: она почувствовала в себе будущего сына - лётчика, «нового завоевателя / Недоступных гор и неведомых областей!» Но как уберечь его от жестокости этого мира? Она видит маленького сына столяра, который ищет еду в помойном ведре, и клянётся, что не успокоится, пока не спасёт своего сына, хотя бы его одного. Настало время вновь превратиться в двоюродного брата.
Господин Шой Да объявляет собравшимся, что его кузина и впредь не оставит их без помощи, но отныне раздача пищи без ответных услуг прекращается, а в домах господина Шу Фу будет жить тот, кто согласен работать на Шен Де.
VIII. На табачной фабрике, которую Шой Да устроил в бараках, работают мужчины, женщины и дети. Надсмотрщиком - и жестоким - здесь Ян Сун: он ничуть не печалится из-за перемены участи и показывает, что готов на все ради интересов фирмы. Но где Шен Де? Где добрый человек? Где та, кто много месяцев назад в дождливый день в минуту радости купила кружку воды у водоноса? Где она и её будущий ребёнок, о котором она рассказала водоносу? И Сун тоже хотел бы знать это: если его бывшая невеста была беременна, то он, как отец ребёнка, может претендовать и на положение хозяина. А вот, кстати, в узле её платье. уж не убил ли несчастную женщину жестокий двоюродный брат? Полиция приходит в дом. Господину Шой Да предстоит предстать перед судом.
IX. В зале суда друзья Шен Де (водонос Ван, чета стариков, дедушка и племянница) и партнёры Шой Да (господин Шу Фу и домовладелица) ждут начала заседания. При виде судей, вошедших в зал, Шой Да падает в обморок - это боги. Боги отнюдь не всеведущи: под маской и костюмом Шой Да они не узнают Шен Де. И лишь когда, не выдержав обвинений добрых и заступничества злых, Шой Да снимает маску и срывает одежду, боги с ужасом видят, что миссия их провалилась: их добрый человек и злой и чёрствый Шой Да - одно лицо. Не получается в этом мире быть доброй к другим и одновременно к себе, не выходит других спасать и себя не погубить, нельзя всех осчастливить и себя со всеми вместе! Но богам некогда разбираться в таких сложностях. Неужели отказаться от заповедей? Нет, никогда! Признать, что мир должен быть изменён? Как? Кем? Нет, все в порядке. И они успокаивают людей: «Шен Де не погибла, она была только спрятана. Среди вас остаётся добрый человек». И на отчаянный вопль Шен Де: «Но мне нужен двоюродный брат» - торопливо отвечают: «Только не слишком часто!» И между тем как Шен Де в отчаянии простирает к ним руки, они, улыбаясь и кивая, исчезают вверху.
Эпилог. Заключительный монолог актёра перед публикой: «О публика почтенная моя! Конец неважный. Это знаю я. / В руках у нас прекраснейшая сказка вдруг получила горькую развязку. / Опущен занавес, а мы стоим в смущенье - не обрели вопросы разрешенья. / Так в чем же дело? Мы ж не ищем выгод, / И значит, должен быть какой-то верный выход? / За деньги не придумаешь - какой! Другой герой? А если мир - другой? / А может, здесь нужны другие боги? Иль вовсе без богов? Молчу в тревоге. / Так помогите нам! Беду поправьте - и мысль и разум свой сюда направьте. / Попробуйте для доброго найти к хорошему - хорошие пути. / Плохой конец - заранее отброшен. / Он должен, должен, должен быть хорошим!»
Пересказала Т. А. Вознесенская .
Записки дилетанта.
№ 21. Театр на Таганке. Добрый Человек из Сезуана (Бертольд Брехт). Реж. Юрий Любимов.
Чёрно-белая классика.
Добрый человек из Сезуана – дипломный спектакль Любимова ставший символом Театра на Таганке, с которым он пришёл в далёком 1964 году в театр в качестве худрука. Таким образом постановке, в которой были задействованы Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин уже более 50 лет. Увлечение Бертольдом Брехтом и его идеями «эпического театра» отразилось не только на конкретном спектакле, но и на театре в целом. Встречает зрителя пустой чёрный коробок открытой сцены, без занавеса, без декораций. Но в этом небольшом, коричневом зале, наполненном пожилыми зрителями мягко и уютно.
Действие начинается очень бодро, актёры играют живо, энергично, самоуверенно, если не сказать нагло. Происходящее захватывает с первых секунд и не отпускает до конца спектакля. Акцент сделан на сатирическом изображении персонажей, каждый из которых прост, но хорошо проработан и самодостаточен. Актёры сосредоточены на изображении самых характерных черт своих героев, ведущих себя прямолинейно и предсказуемо, здесь нет недоговорённостей или намёков. Всё чётко, ясно и понятно.
События обозначены режиссёром пунктиром, останавливается он лишь на самых существенных эпизодах. Во всём чувствуется твёрдая, уверенная рука, рассказывающая историю достаточно сухо, но плотно. Нет ничего лишнего, только самое главное, но в этом лаконизме ещё ярче проявляется игра актёров, их воздействие на зрителя. События происходят быстрее, здесь меньше лирических отступлений, не так много зонгов. В итоге, вкупе с большим количеством юмора, спектакль смотрится на одном дыхании, как монолит. Заслуженный режиссёр, умудрённый жизнью и опытом, но не потерявший всей своей иронии, с высоты прожитых лет ведёт повествование твёрдой и умелой рукой. Всё прямолинейно, просто и понятно.
Шен Те очень добрая, но слишком простодушная девушка, которой каждый проходимец тут же залезает на шею. Её альтер эго, «двоюродный брат» Шуи Та, наоборот видит всех насквозь, знает, чего хочет и идёт к этому напролом, только щепки летят. Бездельники-попрошайки, «подонки квартала» устремляющие все способности на разорение своей благодетельницы здесь злы, но обаятельны в своей комической самобытности, их экспрессивные выходки смешны. У Любимова вся логика развития событий подталкивает к необходимости появления «двоюродного брата», спасающего положение. У Шен Те здесь нет мучительных терзаний, она превращается в Шуи Та вынужденно и неизбежно. Он должен был появиться, по-другому быть и не могло.
Спектакль оформлен в полном соответствии брехтовским «эффектом отчуждения», декорации практически отсутствуют, а те, что есть совсем условны – в конструкции из металлических прутьев узнаёшь дерево, а табачную лавка воссоздаётся с помощью стола и надписи «Табак». Надпись – часто применяемый приём в «эпическом театре». Если скромная свадьба происходит в дешёвом ресторане, то на транспаранте так и написано «Дешёвый ресторан». Всё остальное – за актёрами, создающими неповторимый, зажигательный и чуть хулиганский стиль, особую энергетику. Происходящее увлекает и вызывает неподдельных интерес. Другой важнейший элемент эпического театра – музыка, зонги сопровождающие и пронизывающие спектакль здесь исполняются под гитару и баян, но выглядит это вкупе с фирменным актёрским стилем и аурой Таганки органично. Здесь чувствуется особый коллективный актёрский дух, это одна «банда».
Здесь проявляются парадоксы заложенные автором – мир устроен таким образом, что в определённых ситуациях следуя «сердцу», оставаясь добрым и хорошим для всех в итоге ты можешь себя и погубить. Для полезных дел в нашем мире иногда приходится делать чёрную работу, быть безжалостным и жёстким, понимать истинное значение поступков и знать цену вещам. Сами боги «одобряют» появление Шуи Та, но делая оговорку, что не чаще чем «раз в месяц». Другой парадокс в том, что единственным добрым человеком в Сычуани оказалась проститутка, другие люди добрыми быть давно перестали. Можно рассматривать это как своеобразный намёк, автор отмечает, куда современный циничный мир помещает порядочных людей и как к ним относится. Доброта – это роскошь в мире людей, спутник бедности и тяжкая ноша, и не быть богатым и успешным, если ты не злой.
Если сравнивать постановку Любимова и Бутусова, то становится очевидным кто у кого черпал вдохновение. Некоторые герои Бутусова просто полностью копируют любимовских: бодрая смешная старушка с писклявым голосом, модная домовладелица Ми Тци, покачивающая бёдрами и курящая сигареты через длинный мундштук. Собирательный образ наглых, вероломных прихлебателей тоже взят с Таганки. Три Бога у Любимова в отличие от Бутусова показаны подробно, с вниманием и любовью. Боги симпатичны, справедливы и обаятельны и слишком похожи на людей с их слабостями: они подкрепляются кефиром и бурчат играя в домино. Также совсем по-человечески они спорят, сомневаются, не зная, как поступить. Каждый эпизод с ними яркий и запоминающийся.
Если сравнить спектакли с одеждой, то спектакль с Таганки похож на простую крестьянскую рубаху с поясом из грубой ткани. Детище же Бутусова - это парадный мундир с блестящими медными пуговицами, шпагой и аксельбантами. Бутусов берёт сложной виртуозной формой, углублением в частности, Любимов же пленяет простым, чистым, но совершенным содержанием. Таганка - это старый чёрно-белый классический шедевр, проверенный временем. Театр имени Пушкина - современный зрелищный ремейк, со звёздами, большим бюджетом и в формате 3D.
Легендарный спектакль, с которого началась история Театра на Таганке, и который положил начало фирменному таганскому стилю: прямое обращение к залу, условность действия, отстраненность от образа, «живая» музыка и зонги - короткие ритмичные песни, которым хочется подпевать.
Сюжет спектакля передаётся несколькими словами. Спустившиеся на землю боги ищут хотя бы одного доброго человека. Но, как выясняется, даже в душе доброго человека существует зло и периодически одерживает верх. Эти глубокие и серьезные мысли поданы в легкой, изящной, порой сатирической форме.
Основой для сюжета пьесы Бертольта Брехта послужила двойственность нашего материального мира: добрые порывы обращаются в жестокие поступки, желание творить добро причиняет боль, «гнев судьбы», по выражению Т.Манна, становится «дальновидной добротой». Да, боги преподносят Шен Те подарок, но за него добрый человек должен расплачиваться осознанием правды о мироустройстве и душевными страданиями, необходимостью быть жесткой и порой жестокой, чтобы выжить и дать возможность жить другим. Шен Те - порождение мира двойственности, для неё нет иного пути, как жить по его законам, ей не хватает сил нарушить правила игры. Вот откуда иронично-снисходительное отношение к ней богов, вот откуда их требование «регламента» для появления «теневой» ипостаси Шен Те - двоюродного брата Шуи Та.
Какой же вывод должен извлечь зритель из притчевой пьесы Брехта? Мир двойственен и, следовательно, жестокость нужно принять как данность? Человеку остаётся страдание и пессимизм? Нет. Бертольт Брехт, Юрий Любимов и актёры Театра на Таганке предлагают задуматься и понять, что только разум и жесткий контроль проявлений своего «теневого», жестокого начала поможет сохранить равновесие между добром и злом. Разум и интеллект - единственное оружие человека в мире двойственности. В этом призыв богов и декларация автора.
Пьеса-притча о необходимости утверждения добра силой разума будет современна и своевременна, пока существует материальный мир. Вот почему почти 50 лет не сходит со сцены спектакль, объединивший театр мысли Б. Брехта и театр формы Ю. Любимова, ставший визитной карточкой Театра на Таганке.
Режиссер - Юрий Любимов
Музыка - Борис Хмельницкий, Анатолий Васильев
В спектакле заняты артисты:
Мария Матвеева, Алексей Граббе, Анатолий Васильев, Галина Трифонова, Иван Рыжиков, Лариса Маслова, Дмитрий Высоцкий, Владислав Маленко, Тимур Бадалбейли, Анастасия Колпикова, Татьяна Сидоренко, Феликс Антипов, Полина Нечитайло, Сергей Трифонов, Юлия Куварзина и другие.
Продолжительность спектакля - 2 часа 45 минут.