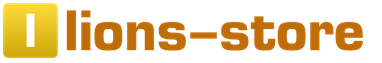Искусство материнства: интервью с директором Музея русского импрессионизма Юлией Петровой. Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова: «Современный музей — это музей, с которым легко общаться
Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
Заславский : В студии Григорий Заславский, добрый день. И я с удовольствием представляю нашего гостя - это директор только что открывшегося в Москве Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. Юлия, приветствую вас в студии "Вестей ФМ", здравствуйте.
Петрова : Здравствуйте.
Заславский : Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько я понимаю, вашему учредителю, основателю принадлежит весь этот комплекс "Большевик". Да или нет?
Петрова : Совершенно верно, да.
Заславский : Да. А как, почему вы выбрали из всех этих замечательных корпусов (каждый из них для человека с опытом ассоциируется с чем-то сладким и прекрасным, "Юбилейным" печеньем, "Земляничным", пирожные вкусные), почему из всех этих корпусов вы выбрали вот этот вот мукомольный цех в глубине квартала, к которому нужно еще идти? И, в общем, это во многом новое для Москвы такое музейное пространство внутри. Ну, может быть, это можно сравнить с таким спрятавшимся среди переулков домом Васнецова. Сейчас я начал тут же искать какие-то ассоциации.
Петрова : Идти там недалеко. И нам самим нравится, и гости уже оставляют отзывы, что "Большевик" реконструирован очень красиво, и идешь по нему, как по Лондону. Это чистая правда, он очень талантливо сейчас сделан. Выбрали это здание (круглое в плане, цилиндр, цилиндр без окон) именно потому, что собственно уличный дневной свет картинам нашим не нужен, вообще для музейных полотен он не очень полезен. И если в обычных музеях (музеях, извините, не в обычных, а в расположенных в более традиционных помещениях) сотрудники вынуждены как-то бороться со светом, вешать тяжелые гардины, то у нас такой проблемы нет. Нет окон, нет бликов, ничто не мешает восприятию живописи. Здание показалось нам в этом плане очень удобным. И кроме того, поскольку оно не имело исторической ценности, как лицевое здание на Ленинградском проспекте, которое было восстановлено буквально до детали по архивным фотографиям, по документам, наше здание, построенное в 60-е годы 20-го века, исторической ценности не имело, что, конечно, позволило нам его переоборудовать под музей практически полностью. Оно осталось в своих формах, но внутри абсолютно изменилась его планировка.
Заславский : А вот интересно, очень часто, когда делаются в России какие-то вот такие новые постройки, часто берут как аналог какую-то зарубежную, английскую или какую-то другую институцию. Есть ли какой-то образец, был ли он для Музея русского импрессионизма как по внешнему его решению, так и по внутреннему содержанию? Ну, даже, может быть, исходя из того, вот та команда, которая делала, наверняка иностранная. Или нет, да?
Петрова : Архитектор иностранный - британское архитектурное бюро John McAslan + Рartners .
Заславский : Они уже делали музеи какие-то?
Петрова : Они вообще специализируются на культурных объектах. В Москве они делали "Фабрику Станиславского" с театральной студией Сергея Женовача. И поэтому мы обратились к ним, будучи абсолютно уверены в качестве того, что получится. "Фабрика Станиславского", кто там был, знают, что изумительно сделана и качественно, и красиво.
Заславский : И офисная часть, и театральная, да, согласен, да.
Петрова : И офисная часть, и театральная, и апартаменты, которые там находятся.
Заславский : В апартаментах не был.
Петрова : Внутри тоже не была, но снаружи все это выглядит очень и очень достойно, в едином стиле и на очень высоком уровне. Поэтому к этому архитектурному бюро мы обратились безо всякой опаски. Равнялись ли они на какие-то существующие образцы? Честно говоря, не уверена.
Полностью слушайте в аудиоверсии.
Популярное
11.10.2019, 10:08
Очередная попытка Зеленского понравиться народу
РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: «Это была очередная попытка понравиться народу. Зеленскому кто-то сказал, что с народом надо общаться. Кстати, правильно сказали, потому что ему надо каким-то образом поддерживать свой рейтинг. Это единственное, что у него есть. Очевидно, сказали ему и о том, что общаться надо креативно».
За первые две недели своего существования музей уже испытал большой наплыв посетителей, что показывает интерес москвичей к такому явлению в искусстве, как русский импрессионизм. Но можно ли считать его действительно самобытным течением в искусстве? Об этом и многом другом рассказала нам Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.
В России ещё никогда не было музея, посвященного импрессионизму. Как вы думаете, почему? Возможно, из-за того, что существование импрессионизма в России всегда было под вопросом?
Действительно, вы правы термин «русский импрессионизм» в искусствознании оспаривается. Одни блестящие специалисты на нем настаивают, другие, не менее блестящие, считают, что говорить о существовании русского импрессионизма не правомерно. На наш взгляд, именно эта полемичность термина и является интересной. Если здесь, на площадке русского музея, такая полемика будет развиваться, будут проводиться дискуссии, научные работы и издательская работа, посвященная этому вопросу, – это будет интересно и здорово.
Почему до сих пор русскому импрессионизму доставалось мало внимания? Это объясняется историческими обстоятельствами. Русскому импрессионизму не повезло. Когда он вошел в самый свой зенит, в первые годы XX века, практически сразу его существенно потеснил авангард. Русское искусство развивалось в XIX веке и развивается сейчас несколько в другом темпе, чем европейское. У нас все происходит немного позже, но существенней и стремительней. Разные стилистики и направления сжались в тесный слоеный пирог, и импрессионизм, импрессионистичность, то есть стилистика союза русских художников, оказалась несколько подавлена авторитетом авангарда. Он вышел на сцену и сразу привлек внимание публики и критики. Многие художники увлеклись авангардными пробами, а русскому импрессионизму не досталось в этот момент своего исследователя. Серьезные научные монографии по истории импрессионизма были написаны только в конце XX века. Так, в 2001 году состоялась выставка в Русском музее «Русский импрессионизм», приуроченная к столетию союза русских художников. Для нее была написана очень серьезная программная статья Владимира Леняшина «Из времени в вечность». И с этого момента полемика вокруг русского импрессионизма начала развиваться, а мы ее поддерживаем.
Формирование экспозиции музея происходило на основе коллекции Бориса Минца. Произведения для коллекции отбирались только по принципу принадлежности к импрессионизму или рассматривались и другие стили?
Коллекция Бориса Минца строилась, как и любая частная коллекция, — из работ милых самому владельцу. Единственный, на мой взгляд, правильный способ коллекционировать что бы то ни было – покупать то, что тебе искренне нравится и симпатично. Со временем стало понятно, что коллекция Минца тяготеет именно к импрессионизму. То, что мы показываем сегодня в музее, — это то не единственное наполнение собрания Бориса Минца. Также, например, есть очень хорошая подборка графики объединения «Мира искусства». И, думая о том, как именно нужно построить фокус музейной экспозиции, мы поняли, что наиболее заслуживает внимания утраченный в свое время феномен русского импрессионизма. Как отметил сам Борис Минц в одном из интервью: «Борец за справедливость в нем победил». Он создал этот музей из чувства справедливости перед художниками, которых мы показываем. Это блестящие мастера, которые, к сожалению, в свое время утратили зрителя, а вернуть их ему необходимо.

Интересно, почему вы не начали первую выставку с более известных художников? Почему именно Арнольд Лаховский?
Потому что это одна из наших программных задач. Естественно, думая о концепции музея, мы поставили перед собой ряд целей. Одна из них – обращение внимания на мало известные имена. В нашей постоянной экспозиции и основном собрании немало имен, которые хорошо известны специалистам, но не массовому зрителю. Например, Сергей Виноградов, Станислав Жуковский — художники не хрестоматийные, но абсолютно этого заслуживающие. Та же история и с Лаховским. Мы выбрали его в качестве первой выставки именно как заявку на нашу идейную, важную для нас программу. В декабре мы будем делать выставку Елены Киселевой – замечательной художницы Серебряного века, которая, увы, точно так же в определенный момент по историческим обстоятельствам осталась без своего зрителя. Время от времени мы будем проводить выставки именно малоизвестных художников.

Арнольд Лаховский «Весна (Черная речка)»
То есть основная задача Музея русского импрессионизма заключается в экспонировании малоизвестных русских художников?
Нет, не только малоизвестных. Несомненно, это одна из наших задач — обращать внимание на то, что называется «забытыми именами». Но этим музейно-выставочная программа не ограничивается. В планах и привозные выставки европейских художников. Помимо монографических выставок, как например, выставки Лаховского и Киселевой, будут сборные, проблемные выставки. Будем показывать и коллекционерские подборки, и частные собрания – то, что наименее известно зрителю, реже всего попадает в поле зрения посетителя музея. Хочется обязательно привозить выставки и работы из региональных музеев. Там хранятся удивительные сокровища, которые проходят мимо москвичей. Поэтому малоизвестными именами мы не ограничимся.
Арнольд Лаховский «За вязанием»
Продолжая тему выставок, пожалуйста, расскажите какие кураторы интереснее Музею русского импрессионизма: российские или зарубежные?
Это зависит от того, какой проект мы делаем. Например, на осень мы готовим большой проект Валерия Кошлякова, и там куратором будет европеец Данило Эккер – директор Туринской галереи современного искусства. Он работает с Кошляковым порядка десяти лет, делал уже его выставки, хорошо понимает вектор развития его творчества. Это очень плодотворный союз художника и куратора. Поэтому мы, конечно, обратились именно к нему. Это было и пожелание художника. И мы были абсолютно согласны с этим выбором. Для других экспозиций мы привлекаем и российских кураторов, несомненно. Постоянную экспозицию, естественно, собирали сами. Выставку Лаховского мы собирали совместно с Галереей Альбион и наши специалисты над этим работали. Это всегда зависит от выставки. Выставку Киселевой мы делаем вместе с Воронежским музеем, и будет один куратор от нас, один от воронежского музея. Мы представляем то, что хотим получить на выходе. Музей максимально плотно занимается каждым своим проектом.

Николай Тархов «Мамина комната утром», 1910-е
Как вы думаете, какому зрителю музей будет более интересен?
Сейчас, когда музей уже открыт, на эти вопросы можно отвечать более конкретно. Мы открыты уже две недели, и я вижу в залах, к своей радости, очень много детей. К своему удивлению вижу в залах и очень много мужчин. Известно, что традиционно посетители музеев – это дамы, которые, также, как в консерваторию или театр, приводят своих спутников. Но здесь, в музее, я вижу отцов, приводящих своих сыновей, молодых мам с колясками и с грудными детьми в слингах. Мы сделали для этого все, что было в наших силах. Лифты, пеленальные столики, полная доброжелательность персонала. Очень для нас важно, чтобы детей приводили в музей не в качестве наказания, как в школе, а в качестве естественной составляющей жизни. Сходить в гости, на детскую площадку, в музей. Для ребенка эти события одного порядка. Очень хотелось бы к этому стремиться. К нам с удовольствием приходят, как сейчас называют, люди третьего возраста. Надо сказать, что они очень подкованные и, приходя в музей, делятся, что узнали о нас из интернета. Прочитали об Арнольде Лаховском на Facebook и решили прийти в музей. Это, конечно, переворачивает представление о музейных посетителях. За первые пять дней работы музея нас посетило 4 500 человек. Надеемся, что мы сможем поддерживать этот темп и дальше.

Основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц называет ваше выставочное пространство «абсолютно современным». Расскажите, пожалуйста, в чем заключается эта современность? В музее будут применяться новые способы коммуникации и работы с посетителями?
Я думаю, что, говоря о современности, стоит иметь в виду не средства коммуникации, хотя уже в июне мы презентуем в музее на постоянной экспозиции мультимедийную зону образовательно-просветительского плана. Будет возможность узнать, как художник работает, по каким физическим законам складывается восприятие картины, как он обращается с светом, в чем отличие импрессионистической живописи от живописи студийной, до импрессионистической. Будет много интересных форматов. Для меня современный музей – музей абсолютно доброжелательный к своему посетителю. Музей, в котором посетителю не угрожают ни окрики, ни нотации. Музей, с которым можно взаимодействовать, куда можно приходить на лекции, круглые столы, концерты, творческие вечера. Куда можно приводить детей и не беспокоиться. У нас есть детская учебная студия, где работают талантливые педагоги. Мы постарались так организовать студию, чтобы можно было работать и за мольбертом, и провести занятия, посадив детей в круг на пуфе, создав атмосферу для беседы. Современный музей — это музей, с которым легко общаться. Музей, с которым можно найти связь и в социальных сетях, и в интернете, и лично. Все наши сотрудники готовы в любой момент отвечать на любые вопросы наших посетителей. Кроме того, музей технологичен. Это, может быть, менее видно нашим посетителям, больше видно специалистам, партнерам, которые отдают свои произведения на выставки. И доверяют свои работы нашим хранилищам. Очень много нюансов и узловых моментов продумали мы, наши консультанты и архитекторы этого проекта.

Пётр Кончаловский «Натюрморт»
Юлия, какое настроение у Вашего музея? Можете сказать несколько слов или привести какую-нибудь ассоциацию?
Первое, о чем я сейчас подумала, когда вы этот вопрос задали… Мне его, надо сказать, ни разу не задавали за последний месяц, а я дала какое-то ошеломляющее для себя самой количество интервью. И первое, что возникло у меня в голове, первая ассоциация – то, что музей радостный. И работы импрессионистические яркие и художники, которые их создавали, ведь именно на это и нацеливались. Знаменитая фраза Серова: «Я хочу – хочу отрадного и буду писать только отрадное!» Она ведь именно про это. Но помимо этой очень известной цитаты, еще сразу пришла на ум фраза Василия Дмитриевича Поленова «Я считаю, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». Весь этот музей с его экспозицией, его построением, с его сотрудниками, должен давать счастье и радость. Иначе не понятно, зачем все это было делать.
Беседовала: Елена Рыбакова
— Борис Иосифович, с чего началась ваша история коллекционирования живописи?
— Единой точки отсчета нет, я всегда покупал недорогие картины, которые мне нравились, интересовался, читал. Знаете, дом и квартира даже живут совсем по-другому, когда в них есть живопись. Приезжая в Петербург, я обязательно иду в Русский музей или в Эрмитаж. Но в девяностых, когда я еще служил чиновником и был не бедным человеком, я все-таки считал, что заниматься коллекционированием не время. Поэтому более серьезное увлечение началось порядка шестнадцати лет назад, когда я уже вернулся в бизнес.
— Когда вы сосредоточились именно на теме русского импрессионизма?
— Однажды я познакомился с известным коллекционером Леонидом Степановичем Шишкиным, сформировался определенный круг общения, я начал больше времени посвящать своему увлечению, думать, что можно было бы собрать. И тогда же столкнулся с русской манерой импрессионистического письма. В какой-то момент я осознал, что русским художникам удавались совершенно фантастические работы импрессионистического толка, и начал искать литературу по теме. К сожалению, нашел только одну американскую книгу, но она, по моему мнению, была сильно политизированной и несправедливой, и рассказывала о советском периоде импрессионизма.
— А вам не кажется, что русский импрессионизм в целом недооценен в мире?
— Я абсолютно в этом убежден. О нем практически никто не знает. Даже нет понятия русского импрессионизма. Прошлой весной, к примеру, мы показывали в Венеции свою выставку в партнерстве с русско-итальянским культурным центром. Он сотрудничает с Венецианским университетом, специалисты которого считаются одними из лучших в мире в области истории искусств. Сильвия Бурини и Джузеппе Барбьери — кураторы, работавшие вместе с нами над экспозицией, — сказали, что нужно пересматривать все учебники, которые у нас выходили. Потому что в них есть русская икона, есть авангард Малевича и Кандинского, есть соцреализм и все.
Мы вообще стали одними из первых, кто системно подошел к русскому импрессионизму. Когда кураторы ко мне ехали, я сильно волновался. Думал, сейчас приедут, посмотрят на картины и скажут: «Боже мой! Какую-то ерунду собрали, и еще выставку хотят сделать! Совсем эти русские бешеные». Но когда мы открывали выставку, собралась вся Италия и половина Европы, огромный зал был полон!
Справедливость — это важнейшая вещь в жизни.
— У вас в семье существовала традиция коллекционирования?
— Нет. В моей семье, к сожалению или к счастью, многое начинается с меня. Я не видел ни одного своего деда, оба погибли на войне. Но по линии матери были близкие к искусству люди. Младшая сестра моей бабушки играла в театре Мейерхольда, но ее забрали. У бабушки я в свое время не спросил, а маме было всего четыре года, когда это произошло. Она, конечно, не помнила ничего из того, что до этого было в их доме.
— Как долго вы вынашивали мысль открыть музей русского импрессионизма?
— У меня есть два свойства. Первое — это некая пассионарность, мне все время что-то хочется сделать. А второе — справедливость. Я вообще считаю, что справедливость — это важнейшая вещь в жизни. В какой-то момент я пришел внутренне к выводу, что мир несправедлив по отношению к замечательным русским художникам: они создали столько шедевров, и никто их не видит. Есть два способа это исправить. Первый — открыть галерею, но это предполагает продажу. Я много чего в жизни покупаю и продаю, но только не картины. Я ни одного полотна в своей жизни не продал. Один раз попытался, но, к счастью, картина не ушла. Я привез ее домой, посмотрел на нее и спросил себя: «И зачем я ее продавать удумал?». Я понял, что галерея мне не интересна. А вот музей… В Москве вообще мало музеев. А сейчас появилась возможность делать частные. И я посчитал, что это хорошая, красивая история. Кроме того, у меня был прекрасный специалист — Юля Петрова, которая помогала собирать коллекцию. Всегда рядом нужен знающий человек. В бизнесе это называется «антрепренер». Тот, кто будет этим заниматься, что называется, фул-тайм.
Музей русского импрессионизма
— Юлия Петрова стала директором музея?
— Да. Я с ней делал несколько выставок, и мне понравился наш опыт. Мне вообще по душе молодые, образованные люди, которые знают больше меня. При этом я с осторожностью отношусь к искусствоведам, потому что многие из них «блестят умом, а не светят», как говорил Ларошфуко. Они обычно произносят какие-то слова, которые простому советскому человеку трудно понять.
— Как вы выбирали место для будущего музея?
— Чтобы сделать музей, нужно выбрать правильное место. Мы очень долго не могли его найти. Знаете, есть такой замечательный девелопер Сергей Гордеев. Он построил бизнес-центр «Фабрика Станиславского» (в царской России здесь располагалась золотоканительная фабрика Алексеевых — прим. ред. ). И там же расположилась «Студия театрального искусства» Сергея Женовача. Великолепный комплекс получился. Мне идея офисного центра, имеющего культурный объект, кажется очень правильной. Поэтому, когда мы купили фабрику «Большевик», я приехал туда, посмотрел и сразу понял — вот то место, где надо построить музей. Дальше мы начали создавать проект, искать людей, кто бы нас консультировал, стали ездить по музеям мира, собирать опыт.
— Вы руководствовались чьими-то советами, создавая концепцию музея?
— Знаете, здесь огромную роль сыграла великая женщина — Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранной литературы. Человек совершенно уникальный, выдающийся, блестящий культуролог. Она, к сожалению, умерла в прошлом году. Мы очень долго обсуждали проект музея и выработали некий концепт. Ее мнению я доверяю на сто процентов. Кроме того, мы реализовали масштабный совместный проект — привозили картины в региональные библиотеки. И эффект был фантастический. В библиотеки, которые сейчас вообще никто не посещает, приходило 600-700 человек в день, и люди просили продлить время работы.
— В одном из интервью вы сказали, что не надеетесь когда-либо окупить затраты на проект. Во сколько вам обошелся музей?
— Мы вообще не ставили себе такую цель, как окупиться. Музей — это очень дорогая история. Это десятки миллионов долларов. Но главное, что его еще нужно будет содержать. Кстати, я надеюсь, что по нашему бизнес-плану музей будет зарабатывать. Но то, что он не окупится, это точно. Плюс коллекция музея будет постоянно обновляться и пополняться, а это тоже затраты.
Мне не жалко денег на картины.
— Давайте поговорим о коллекции музея. Вы покупаете картины непосредственно в его фонд или она будет состоять из уже имеющихся в вашем личном собрании полотен?
— Я уже много лет покупаю, понимая, что это работы для музея. Конечно, и для дома приобретаю, например, графику, которая для музея не подойдет. Для постоянной экспозиции я передал в общей сложности около ста работ. Во время открытия мы покажем 80 из них. Будет две выставки: основная экспозиция и временная, посвященная работам Арнольда Лаховского. В свое время Лаховский уехал во Францию, а умер вообще в Америке. Но по живописи, по образованию, по духу, по стилистике это абсолютно русский художник. И до нас его никто никогда в таком объеме не показывал. А у нас получилась очень красивая выставка — в ней 54 картины.
— Менее сотни работ в постоянной экспозиции... Современный зритель, по-вашему, вообще приучен к долгому и вдумчивому знакомству с искусством? На сколько хватает его внимания?
— Знаете, мы, на самом деле, из этого и исходили. Современный человек может находиться в музее полтора часа, может кто-то два, но не больше. За это время он получит и эстетическое наслаждение, и узнает что-то новое. У нас где-то тысяча метров экспозиционной площади. Тем не менее, мы лишь половину занимаем постоянной выставкой. Почему? Потому что мы хотели, чтобы получилось следующее сочетание — с одной стороны люди смотрят непосредственно живопись, с другой — есть мультимедийная часть. Мы нашли одного американского парня, который по особой технологии любую картину может по слоям «раздеть» до чистого холста. А в импрессионизме это самое интересное. Ведь импрессионизм — это объем пространства, который задается цветом. Вот смотрите вы, например, на нарисованный лес. И у вас мазок неба, если близко подойти, написан поверх деревьев. А когда вы отходите, то видите глубину. И если постепенно, слой за слоем, снимать мазки, можно увидеть, как картина формировалась.

Музей русского импрессионизма
— У вас есть психологическая планка стоимости картины, за которую вы как покупатель не выйдете?
— Если вы хотите купить импрессионистическую работу Кандинского, то должны понимать, что это будет минимум от $700 тыс. А если это хорошая работа, она может стоить и два, и три миллиона. Но за десять миллионов русских импрессионистов нет. Это уже только французские: Моне, Ренуар.
Сейчас я покупаю меньше, потому что ситуация в бизнесе изменилась, и доходов таких, как раньше, нет. Теперь главное удержать зарплату и хотя бы чуть-чуть ее поднять, чтобы люди могли работать. Нужно инвестировать в бизнес, создавать подушку. Но мы надеемся, что через некоторое время рынок начнет восстанавливаться. У вас есть «мечта коллекционера»? Картина, которую вы бы очень хотели приобрести или конкретный автор, которого у вас еще нет? Серов, например?
— Нет, Серов у меня есть. Но я бы с удовольствием его еще приобрел. Так же как Кандинского и Малевича. У них есть очень хорошие импрессионистические работы, которых у меня нет. Но их очень мало на рынке. Мне не жалко денег на картины. И моя жена меня в этом смысле поддерживает.
— Есть ли в вашей коллекции работы, которые были вывезены из России, а потом благодаря вам вернулись обратно на родину?
— Да, конечно. И не один десяток. Например, картина Кустодиева «Венеция». Эти работы войдут в экспозицию, и их увидит зритель.
— Борис Иосифович, как вы считаете, насколько сегодня искусство востребовано у российского массового зрителя?
— Мне кажется, зритель лучше стал ходить в музеи. Во-первых, появился выбор — галереи, частные музеи, например, Зверева, «Гараж». Активнее стали работать и такие великие музеи, как Третьяковка и Пушкинский. Тот же Серов — это была великолепная выставка. Зрители пришли и увидели целую плеяду людей, которые жили на рубеже XIX-XX веков.
А Пушкинский музей. Они привозили работы Караваджо недавно. И неважно, что там было две или три работы, ведь раньше зритель их не видел. В Лондоне придешь в музей, там десять работ всего, но на них стоит очередь под дождем. У нас пока еще другая культура. Понимаете, если в этой логике находиться, нельзя делать музей русского импрессионизма, если у тебя нет портрета Коровина, выполненного Серовым, или «Девочки с персиками». Но с моей точки зрения это неправильный подход. Нельзя собрать все шедевры.
— Государство сегодня занимается популяризацией искусства и, вообще, помогает таким частным инициативам вроде вашей?
— Нам не надо помогать, нам мешать не надо.
09.03.2018С Юлией Петровой, директором Музея русского импрессионизма, мы встретились спустя неделю после открытия выставки «Жены», посвященной спутницам знаменитых русских художников. Утро буднего дня – а посетителей уже много, к иным экспонатам не сразу и подойдешь. Тема, безусловно, интригующая – много ли мы знаем о личной жизни гениев? О том, кто были эти женщины, как складывались их судьбы, а также об удивительных поворотах собственной судьбы Юлия Петрова рассказала MY WAY.
Полные залы, экскурсии одна за другой. Чем можно объяснить такой успех? Тем, что приоткрываются подробности жизни известных людей?
Я думаю, скорее дело в том, что мы собрали на этой выставке первые имена русского искусства. Илья Репин, Валентин Серов, Борис Кустодиев, Михаил Нестеров, Игорь Грабарь, Николай Фешин, Александр Дейнека, Петр Кончаловский… Я вижу, что больше внимания привлекают работы именно тех авторов, чьи имена у всех на слуху. Поэтому мне кажется, что интерес скорее вызывает соединение в одном пространстве имен, которыми мы привыкли гордиться. Безусловно, истории судеб тоже людей интересуют, и на экскурсиях мы отвечаем на эти вопросы. Но мы – художественный музей и в первую очередь говорим о живописи.
Понятно. Тем не менее из наследия этих прекрасных художников вы выбрали не пейзажи или натюрморты, а именно портреты их жен.
Мне не кажется, что здесь мы сбиваемся в какую-то бульварную «желтизну». Напротив, то, что мы рассказываем об этих женщинах, на мой взгляд, добавляет информации к образу художника. Мне бы хотелось, чтобы с каждой знаменитой фамилией вставал образ человека, о котором интересно узнать больше, почитать, придя домой, или рассказать своим родителям, детям, друзьям.
Выставка охватывает период с последней четверти XIX по первую половину XX века. Но далеко не все из работ попадают в поле русского импрессионизма.
Такой задачи мы не ставили. С самого начала мы с Борисом Иосифовичем Минцем, основателем музея, договорились о том, что русскому импрессионизму будет посвящена только постоянная экспозиция, а временные выставки имеют право не относиться ни к импрессионизму, ни к русскому искусству. С другой стороны, нам интереснее всего работать с именно с этим периодом, поскольку к нему относится развитие русского импрессионизма. Через призму портрета жены говорим и о русском искусстве этого периода, и об эволюции женского образа. Хронологически первый портрет на этой выставке датирован 1880 годом, он приехал к нам из Симферополя. Это работа Николая Матвеева, очень нежная, академического плана, подписанная просто –«Портрет жены». Мы не знаем об этой женщине вообще ничего, даже ее имени. Но прошло почти 140 лет, и зрителей, и социологов, и искусствоведов стало интересовать – кто все-таки эти женщины. Что можно сказать о них самих? Помогали ли они этим мастерам или влияли на них деструктивно? Действительно, приходится рассказывать и личные истории, подчас трагические, подчас довольно забавные. За каждым произведением – судьба.

То есть они очень редко выставляются?
Все, что мы здесь показываем, публика видит редко. Это вещи из 15 музеев и 17 частных собраний. И тут, знаете, еще вопрос, что широкая публика видит реже – работу из частных собраний, например Романа Бабичева или Петра Авена, или работу из музея Саранска, Симферополя или Петрозаводска. К сожалению, даже такие блестящие музеи, как Уфимский или Казанский, посещаются москвичами крайне редко. Возвращаясь к вопросу про истории. Конечно, всегда отдельного разговора заслуживает Наталья Борисовна Нордман-Северова, супруга Репина. Всю свою жизнь она эпатировала окружающих. Происходила из дворянской семьи, небогатой, но достаточно заметной – ее крестным отцом был Александр II. В юности бежала в Соединенные Штаты, чтобы там работать на ферме, через год вернулась в Россию. Разговоры за ее спиной в основном были осуждающими. Когда первый раз ее привели в гости к Репину, Илья Ефимович попросил «эту больше в дом не приводить».
Даже так?
Да. Тем не менее Наталья Борисовна стала супругой Ильи Ефимовича. Она была суфражисткой, феминисткой, пыталась эмансипировать прислугу. Широко известно, что в усадьбе Репина в Пенатах прислугу сажали за стол с господами. Наталья Борисовна готовила мужу вегетарианские обеды, котлеты из сена. Репин, впрочем, вспоминал, что «вечером Наташа спускается в ледник и ест ветчину».

Может, он иронизировал или фантазировал?
Может. Но он очень ее любил. Говорили, что он «от своей Нордманши не отходит ни на шаг». И даже те, кто осуждал Наталью Борисовну за ее радикальные взгляды, в частности Корней Чуковский, признавали, что она Илью Ефимовича очень поддерживает и делает для него все возможное. У нас на экспозиции живописный и скульптурный портреты Натальи Борисовны. Репин создал всего несколько скульптурных портретов, этот – один из них. Отдельная история у портрета кисти Игоря Грабаря, тоже из частного собрания. На нем изображены две молодые женщины, сестры Мещерины, племянницы предпринимателя Николая Мещерина, владельца Даниловской мануфактуры. Игорь Грабарь часто приезжал к ним в Дугино – Мещерин держал в своей усадьбе мастерские для художников. Со временем одна из племянниц, Валентина, стала женой Грабаря. Они родили двоих детей, но, к сожалению, Валентина заболела, несколько лет провела в клинике и в итоге ушла из дома. Заботу о детях взяла на себя ее сестра Мария, которая затем стала второй супругой художника. Портрет, который у нас представлен, написан в 1914 году, когда Грабарь только женился на Валентине. Конечно, никто не мог тогда предполагать, что так повернется жизнь.
Чем портреты жен отличаются от изображений других «моделей»?
Прежде всего, это изображение человека, художнику наиболее близкого, наиболее понятного. Автопортрет и портрет жены – это, в общем, родственные вещи. Портрет жены не пишется на заказ. Соответственно, на него можно потратить разное количество времени. Например, Роберт Фальк портрет своей супруги Ангелины Щекин-Кротовой писал два года. Иногда от гостей нашего музея я слышу комментарии в том духе, что «жены-то совсем не красавицы». Но в большинстве случаев талантливый художник пишет образ, а не фотографическую конкретику. Портрет – это всегда совокупность физических черт и внутреннего обаяния, которому художник, работая с моделью, несомненно, подвержен.

Есть ли у вас любимые работы?
Конечно. Но я затрудняюсь выбрать одну. Есть портреты, которые мне очень нравятся с художественной точки зрения. Я уже упомянула Бориса Григорьева и Николая Фешина. Прекрасный портрет – кисти Кончаловского 1919 года. Вообще, на мой взгляд, 1910-е годы – самые интересные в его наследии. Женой Петра Петровича была дочь Василия Сурикова. Замечательная история связана с портретом кисти Петрова-Водкина. Создавая этот портрет, художник сделал предложение своей возлюбленной. Она смутилась, сказала: «Я не знаю», убежала в сад. Но свадьба состоялась, и они прожили долгую счастливую жизнь. Супруга Кузьмы Сергеевича француженка Мари стала искусствоведом-исследователем и написала мемуары, которые озаглавила «Мой великий русский муж».
Были ли среди жен художников живописцы?
Конечно. Елизавета Потехина училась вместе с Робертом Фальком и стала его первой супругой. Елизавета фон Браше, жена Бориса Григорьева, окончила Строгановское училище с золотой медалью – однако кто видел ее работы? Для большинства этих женщин замужество поставило точку в личной творческой судьбе. Исключением можно считать Варвару Степанову – ее портрет кисти Александра Родченко тоже у нас на выставке. Как редкий пример женщины, которая создала рядом с мужем-художником собственную яркую карьеру, назовем Надежду Надеждину, основательницу ансамбля «Березка». Ее мужем был Владимир Лебедев, живописец, график, художник очень тонкий. Понятно, что очень много вопросов вызывает фигура Маргариты Коненковой. Теперь уже известно, что она была советской разведчицей. И именно потому, что она выполняла спецзадания, Коненковы провели 20 лет в Штатах, а, вернувшись оттуда, не подверглись никаким репрессиям, напротив, получили квартиру и мастерскую на Тверском бульваре.

Не могу не спросить – а вам как директору музея хва
тает времени и на работу, и на семью?
Конечно, объять необъятное нельзя, всегда будешь чувствовать себя не успевшей в той или другой части своей жизни. Но я знаю, что моя сильная сторона – тайм-менеджмент. Еще не зная такого слова, в средних классах школы я научилась планировать и соблюдать спланированные графики, никогда не опаздывать. Уверена, что это помогает мне держаться в ритме. Кроме того, у меня муж – каменная стена.
А как вы в принципе выбрали профессию? Вы из семьи искусствоведов?
Нет. Мои родители инженеры. Я училась в очень хорошей школе в Санкт-Петербурге, у нас был курс по истории искусств – преподаватель Галина Петровна Жиркова так интересно рассказывала, что я загорелась. Потом я поступила в университет в Петербурге, училась параллельно на двух факультетах – историческом и филологическом. Занималась французским символизмом и в итоге защитила диссертацию на эту тему – о художнике по имени Эжен Каррьер. Работать начала после 10 класса – давала уроки французского, делала переводы, редакторскую работу. Спасибо тем, кто в меня верил, когда я, семнадцатилетняя, приходила к ним и утверждала, что все смогу. Я тоже стараюсь поддерживать молодежь, которая приходит к нам в музей.
А как вы сами попали в музей?
Я познакомилась с господином Минцем, когда работала в антикварной галерее Леонида Шишкина в Москве. Борис Иосифович был одним из наших клиентов. Когда я уходила из галереи и сообщила господину Минцу, что увольняюсь, он предложил мне стать его консультантом. Ну а спустя короткое время у него возникла идея открыть музей – и вот уже шесть с лишним лет мы делаем этот проект.
Вы так молоды и уже директор музея – какие цели ставите перед собой?
Помимо карьерного роста существует рост профессиональный. Мне бы хотелось, чтобы выставки, которые мы здесь проводим, были успешными. Чтобы люди приходили на них с удовольствием и уходили вдохновленными. Чтобы москвичи, обдумывая, как они проведут выходные, смотрели – а что там в Музее русского импрессионизма? Думаю, что после 40 займусь докторской диссертацией. Ну и, как любая женщина, я хотела бы еще детей (сейчас у меня только одна дочь). И я хотела бы, чтобы моя семья была счастлива.
Интервью с бизнесменами, артистами, путешественниками и другими известными личностями вы можете найти в .
Текст: Людмила Буркина
Давно сложилось мнение, что искусствовед никогда не найдет себе работу по специальности, а музейный работник – это женщина – синий чулок без личной жизни и особых амбиций, этакая серая мышка, витающая в облаках и влюбленная в мужчин, умерших несколько веков назад. Сегодня мы раз и навсегда развеем этот миф, познакомив вас с директором Музея русского импрессионизма и молодой мамой Юлией Петровой.
Давайте начнем с самого начала: почему искусствоведение? Родители не отговаривали? Ведь все знают, что это прекрасное образование, которое крайне редко становится профессией.
Я увлеклась историей искусства в восьмом классе – довольно рано для выбора профессии. Родители не отговаривали, но сразу предупредили, что вряд ли смогут помочь с подготовкой к экзаменам или потом с поиском работы – они из другой сферы. Одна мамина подруга, помню, спрашивала, как я собираюсь кормить свою семью, но в юности у меня было твердое убеждение, что я могу пробить головой любую стену, а значит что-нибудь придумаю.
Где именно вы учились?
Я петербурженка и училась в Санкт-Петербургском университете на кафедре истории искусства. Поступать в аспирантуру поехала в Москву. Осталась. Училась, работала. Минувшим летом наконец защитила кандидатскую диссертацию.
Я работала в антикварной галерее, где господин Минц был одним из клиентов. Впоследствии, когда галерея закрыла одно из двух своих выставочных пространств и сократила часть штата, в том числе и меня, Борис Иосифович предложил мне остаться его консультантом.

Идея о создании частного музея была у Минца давно или вы некоторым образом причастны к ее появлению?
Идея полностью его, но я была одной из первых, кому он ее озвучил в конце 2011 года. Спросил поддержу ли. Начинание выглядело чрезвычайно смелым, но попробовать стоило. Я согласилась, конечно.
Какие из работ появились в коллекции Минца благодаря вам?
Мы обсуждаем каждую покупку, чаще я отговариваю от приобретения, чем настаиваю на нем. Но могу сказать, что по моей инициативе покупались в частности «Мокрые афиши» Юрия Пименова, «Заросший пруд» Николая Клодта, «Лес» Станислава Жуковского. Я обратила внимание коллекционера на художницу Валентину Диффинэ-Кристи и ряд других мастеров, пока не очень широко известных. Но это не столько моя заслуга, сколько моя работа.
Расскажите, пожалуйста, как строится работа с частными коллекциями, по какому принципу подбираются картины?
Для постоянной экспозиции музея мы подбираем импрессионистическую живопись. Поскольку понятие «русский импрессионизм» в истории искусства несколько размыто, то есть не существует фиксированного списка художников, которых следует безоговорочно причислять к импрессионистам, ориентируемся в первую очередь на стилистику каждой конкретной картины. Скажем, Борис Кустодиев, конечно, вошел в историю не как импрессионист. Но в нашем музее выставлена именно импрессионистическая его работа. Кстати, через увлечение импрессионизмом прошли практически все живописцы начала XX века, даже у наших знаменитых авангардистов – Малевича, Ларионова – есть импрессионистические полотна исключительной красоты.
У Бориса была коллекция с четкой направленностью? Именно русский импрессионизм, картины определенного периода или русская классика в его коллекции тоже присутствует?
Каждый коллекционер, начиная собирать, покупает вначале то, что нравится ему самому. О четких хронологических, тематических или стилистических рамках обыкновенно на первых порах никто не задумывается. Потом постепенно коллекция приобретает свое лицо, в этот момент становится ясно, что в ней есть те или иные лишние предметы и, наоборот, определенные лакуны, выбирается вектор дальнейшего развития. Когда господин Минц пригласил меня работать над проектом музея, мы быстро поняли, что выставлять будем только часть собрания. У него есть прекрасные экземпляры графики объединения «Мир искусства», есть и современные художники, например, Илья Кабаков или Валерий Кошляков – но для музея была выбрана тема именно русского импрессионизма, и ничто иное в музейную экспозицию не попало.
Что именно входит в обязанности директора музея?
Я объединяю функции администратора и главного куратора или, если хотите, художественного руководителя. Вторая составляющая для меня как искусствоведа гораздо увлекательнее, но и первая необходима. В работе руководителя есть свой интерес: там свои законы и закономерности, переплетаются экономика, психология, социология, менеджмент, маркетинг… Мне пришлось разбираться практически с нуля, и до сих пор я учусь.
Как примерно выглядит основной музейный состав? Кто в него входит и за что отвечает в команде?
Для того количества мероприятий и проектов, которые мы проводим, у нас небольшой коллектив – порядка 25 человек, включая финансово-юридический блок, IT, водителя, офис-менеджера. В российских музеях традиционно работают в основном женщины и мы не исключение. Коллектив молодой, и, хотя подчас где-то не хватает опыта, это здорово – активные, неуставшие, небезразличные, с горящими глазами и ежедневными новыми идеями, как сделать лучше.
Помимо искусствоведов, которые занимаются выставками и каталогами, есть сотрудники, отвечающие за проходящие в музее лекции, концерты, творческие встречи, занятия живописью для детей и взрослых. Есть PR-отдел, менеджер по маркетингу. Отдельный сотрудник занимается инклюзивными программами: в прошлом году, например, мы запустили в музее экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих, то есть тех людей, для кого жестовый язык родной. В этом году адаптируем музей для посетителей с нарушениями зрения – уже готовы тактильные макеты картин, фактуры, запахи и звуки, которые помогут незрячему человеку составить представление о картине. Для художественного музея это смелая задача, ведь живопись апеллирует именно к зрению.

Рождение ребенка и рождение музея примерно совпали. Как Вам удалось совместить эти 2 процесса? Вы уходили в декрет? Надолго?
Вообще не уходила. На последней рабочей встрече до родов была в 39 недель беременности – к счастью, беременность у меня протекала легко. После родов на первую встречу пошла, когда малышке не было еще трех недель. Но это был 2013 год, до открытия музея оставалось еще время, и расписание тогда, конечно, было не такое сумасшедшее как в 2015-2016 годах. Поэтому в основном я работала из дома.
Помню, в какой-то момент у меня был четкий график: пока муж на работе, у ребенка три дневных сна – один сон я тратила на хозяйство, второй, самый длинный – на работу, третий – на себя. Плюс, работала вечерами, когда муж возвращался домой. Параллельно понемногу занималась диссертацией, в основном по выходным. О таких вещах, как поспать днем самой или посмотреть сериал, я никогда не думала. Давайте назовем это «требовательность к себе».
Вы – работающая мама, ваша карьера/работа отнимает у вас практически все время. Угрызений совести по отношению к дочери не бывает?
Я не думаю, что ребенку нужно всё мое время без остатка. Даже, напротив, убеждена, что у мамы должно быть личное время и своя жизнь. Чем насыщеннее жизнь родителей, тем интереснее они для своего ребенка, тем больше могут ему дать в конечном итоге.
Конечно, Аленка очень радуется, когда мама и папа возвращаются с работы. Но и отпускает нас легко – у нее детский сад, друзья, свои дела.

У вас есть четкий график – время, когда вы только с семьей? Как вообще строится ваше расписание?
Последние полгода перед открытием музея было очень тяжело, и моей семье в том числе. Я работала буквально день и ночь: последние письма мы с коллегами писали друг другу в час ночи, а на следующий день первые приходили уже в семь утра. Мой муж тогда не верил, что график когда-то станет другим. Но все выровнялось, и сейчас, возвращаясь с работы, я даже не включаю компьютер.
Стараюсь строить свое расписание так, чтобы каждый день садиться на пол и играть с дочкой и в это время принадлежать только ей. Не работаю по выходным без крайней необходимости – это время для семьи. В выходные дома не сидим, заранее планируем что-то интересное, будь то поход в театр или поездка загород, каток или прыжки на батутах.
Для меня нет хуже выходного, чем погрязнуть в хозяйственных хлопотах. Если в какой-то месяц выпадает много командировок, и у мужа есть возможность, они с Аленой сопровождают меня в деловых поездках, и тогда я, как и дома, днем – директор музея, а вечером – мама.
А вы сами выросли в какой семье? Родители тоже много работали?
Я никогда не видела своего отца лежащим на диване, и это надолго стало критерием оценки и других, и себя. Сама себе не позволяю лежать, если хорошо себя чувствую. Мама у меня учитель алгебры и геометрии в школе – а значит вечерами проверки тетрадей, заполнение журналов, подготовка к урокам – и это казалось в порядке вещей.

Кто вам помогает с ребенком?
Муж и свекровь. Хотя мне кажется неверным говорить, что они мне помогают. «Помогают» – это когда один всё делает, а другие у него иногда на подхвате. Мы же просто живем все вместе и растим дочку вместе. Аленка с бабушкой и стихи учит, и рисует, и загадки отгадывает, и по хозяйству ей помогает – то они пирожки пекут, то цветы сажают. И я, конечно, могу быть абсолютно уверена, что если я в музее, а ребенок дома, то он вкусно накормлен, ухожен, обласкан родным человеком. Меня и саму бабушка растила, пока родители были на работе, так что о няне мы никогда не думали.
Знаю, что вскоре вы должны поехать отдыхать. Куда собираетесь? Вы из тех, кто предпочитает пляжный, спокойный отдых, или вам не сидится на одном месте?
Нам пляжный отдых противопоказан. И я, и муж активные, и от безделья начинаем только раздражаться. Муж меня поставил на горные лыжи, хотя я долго считала, что не смогу. Еще во время моей беременности научил меня нырять с маской – море в этот момент вообще обрело новый смысл, оказалось, что под водой столько удивительного! Теперь выбор морского отдыха всегда оборачивается дилеммой: нужен пляж, чтобы дочка могла купаться, но нужны и скалы, чтобы мы могли нырять.
Аленка уже катается на лыжах, любит ездить в лес, ночевать в палатке. Летом начала осваивать верховую езду. Думаю, скоро и маску с трубкой наденет, глядя на нас. Она вообще очень спортивная.

Алена знает, что ее мама – директор?
Знает, что мама работает в музее, а роли ей пока не очень понятны. Я сама на этом внимания не заостряю. Смешно, что в прошлом году меня «раскрыла» одна из мам в детском саду – говорит, увидела интервью с фотографией. Но вроде бы никому не выдала (смеется).