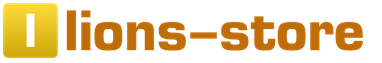История создания фильма "гардемарины, вперед!". Гардемарины - это не только герои культового фильма III
Читается за 15 минут
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелёными лентами, лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести её из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошёл дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через верёвочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шёл высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой чёрный палаш висел у него на лакированном поясе. Чёрные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в чёрном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далёкого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошёл мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошёл за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далёкие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стёклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.
Гардемарин оглянулся. На чёрной ленточке его бескозырки я прочёл загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.
Я шёл за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.
Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.
Мальчик, - спросил он насмешливо, - почему вы тащились за мной на буксире?
Я покраснел и ничего не ответил.
Все ясно: он мечтает быть моряком, - догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.
Дойдём до Крещатика.
Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.
На Крещатике гардемарин зашёл со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трёхногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.
Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне.
Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.
Он крепко пожал мне руку и ушёл. Я посидел ещё немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.
После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было недостаточно.
Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.
Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днём. Я был владельцем самого большого флота в мире.
Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пёстрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Жёлтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, весёлых рогож.
Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан да-Кунью.
Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомин», а где «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фарерских островах.
Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдалённое касательство к морю.
Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».
Он дойдёт бог знает до чего со своими играми, - сказала однажды мама. - Как бы все это не кончилось менингитом.
Я слышал, что менингит - это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.
Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьёй на лето к морю.
Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.
Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Чёрное море, в маленький городок Геленджик, вблизи, Новороссийска.
Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.
Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами - норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с жёлтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.
Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и тёплой её воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зелёных бутылок.
Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.
В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решётчатым настилом.
Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.
Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо солёной пылью.
Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:
Почём твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!
Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли - чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:
Ничего! Маленький душ, тёплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить - скушай за папу-маму!
Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.
Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:
От Батума до Сухума -Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума -Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик -Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик -Ай-вай-вай!
Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:
Теперь он у вас солёный, мадам. Уже имеет к морю привычку.
Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.
Сначала щебёнчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.
Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала - там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на тёмную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно било выкупаться в его прохладной воде.
Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.
Самый перевал! - сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.
С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утёсы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.
Норд-ост сюда не достигает, - сказал извозчик. - Тут рай!
Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.
Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее Дорога. Прозрачный ручей уже бежал по её обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струёй лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.
Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.
Пахнет озоном, - сказал отец.
Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождём.
Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-под камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.
Вон ящерица! - сказала мама. Где?
Вон там. Видишь орешник? А налево - красный камень в траве. Смотри выше. Видишь жёлтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.
Я увидел ящерицу. Но пока я её нашёл, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.
«Так вот он какой, Кавказ!» - подумал я.
Тут рай! - повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. - Сейчас распряжём коней, будем купаться.
Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.
Мы вышли на поляну в зелёном ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.
Пока извозчик распрягал и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.
Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда нас не пустит.
Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился - упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.
Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костёр. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.
Мама заволновалась - идти с нами она не могла, у неё была одышка, - но извозчик успокоил её, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.
Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, - в них синими искрами проносилась форель, - огромных зелёных жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.
Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли её. Очевидно, это было место ночёвки дикого кабана.
Отец ушёл вперёд. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.
Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтёсанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтёсанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.
Это долмены, - сказал отец. - Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор учёные не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.
Я был уверен, что долмены - это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.
В Геленджик мы возвращались совершенно сожжённые солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдалённый ропот моря.
С тех пор я сделался в своём воображении владельцем ещё одной великолепной страны - Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.
Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.
Но я был совсем не похож на захлёбывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.
Судьбы XX века
"Я один из тех, кто видел комету Галлея дважды, - говорил он в кругу друзей, - и xopoшo ее запомнил средь звездного 1914 года, когда глазел на небо с площади перед таможней в Кронштадте. Было много разговоров, но не только о том, что комета своим хвостом сметет с Земли все живое, сколько о плохом предзнаменовании, скорее всего - к войне. Говорили, что следующий ее визит - через 76 лет, но это казалось настолько далеким, что и не думалось о встрече. В 1990 году комета Галлея прошла сравнительно близко от Земли, всего в 22,5 миллиона километров".
Недавно я побывал с очередным визитом у дочери последнего гардемарина Российского флота Бориса Борисовича Лобач-Жученко (на фото) , Таисии Борисовны Горяевой.
Старый моряк четыре года не дожил до своего 100-летия к большой скорби близких друзей-моряков и тех знакомых, кто за глаза называл Бориса Борисовича для краткости, но с любовью "Бе-Бе".
Потомственный дворянин, потомок знатного украинского рода, известный историк и ученый эту дружескую фамильярность воспринимал снисходительно и с явным удовольствием, посмеиваясь, вспоминал, что правнучка звала его "Бебешка", и это было самое первое слово, с которого она выучилась говорить.
С дочерью мы принялись рассматривать фотографии почти столетней давности (где оказались неизвестные снимки Амундсена, Нобиле), альбомы и столь же "древние" письма-раритеты с четким штемпелем "ПОРТ-АРТУР", датируемые 1900-1903 гг.
#comm#Потомственный моряк Борис Борисович Лобач–Жученко родился 17 ноября 1899 года. При нынешней средней продолжительности жизни мужского населения страны, равной 54 годам, его земная жизнь кажется "мафусаиловым веком". #/comm#
В последние годы Борис Борисович много размышлял о прожитой жизни, писал воспоминания, учебные пособия по теории и практике парусного флота, организации и судейству парусных соревнований. На этих книгах выросло не одно поколение яхтсменов. На Балтике он организовал Яхт-клуб ВМФ, поскольку всю жизнь был привержен к "парусу" и каждое лето совершал поход на яхтах (в 1924 году был первым победителем чемпионата СССР). На веслах и под парусом он начал ходить, еще будучи мальчишкой. Об этом времени он охотно и не без юмора рассказывал, не скрывая и того, что за мальчишеские проказы не раз подвергался аресту на гауптвахте.
Вообще-то попадало мне поделом. И, надо сказать, что в то время, например, неудовлетворительная отметка, не исправленная на неделе, автоматически лишала гардемарина увольнения в ближайшую субботу. Эта мера неплохо действовала на многих и заставляла "грызть гранит морской науки", попутно отучая от лени...
Вспоминал "Бе-Бе" и такой "гардемаринский" эпизод:
Во время учебного плавания в 1914 году на трехмачтовом парусно-паровом крейсере "Верный" я стоял на вахте сигнальщиком, когда "Верный" вышел из Кронштадта в Финский залив и, глядя в сильный "цейсовский" бинокль, обнаружил идущий навстречу буксир "Пчела" с баржей. Спустившись на шканцы, доложил вахтенному начальнику: "Господин мичман, слева по носу буксир "Медведь" с баржей!" Название буксира я изменил из озорства, поскольку в юности многое смешит. Видимо, это происходит потому, что вся жизнь впереди и кажется почти бесконечной...
Когда буксир поравнялся с "Верным", мичман, не будучи "чуркой с глазами" на вахте, сразу обнаружил неточность моего доклада. Мое объяснение, что с мостика плохо видно, его не удовлетворил, и он приказал: "Отправляйтесь на салинг (поперечная площадка на топе мачты. - Л. В.) до конца вахты, оттуда будет лучше видно".
Но мне недолго пришлось раскачиваться высоко на ветру, держась за снасть. Вскоре на горизонте увидел дымы и несколько кораблей. Свесившись вниз, обрадованно, четко крикнул глазастому мичману: "На вахте, доложите! Впереди по курсу эскадра адмирала Бити!" Мичман, не сразу поверив, послал на марс опытного сигнальщика и, когда поступило подтверждение моего важного сообщения, послал к командиру корабля доложить об английской эскадре (для этого, оказывается, мы и вышли в залив).
Командир, быстро поднявшись на мостик, сразу спросил, кто первый увидел корабли, и, узнав, что гардемарин-сигнальщик, приказал объявить мне благодарность перед строем. Это случилось незадолго до начала Первой мировой войны, которая уже витала в воздухе..."
"Бе-Бе" почти всегда был окружен молодежью, поскольку имел дар товарищеского общения не только с яхтсменами-моряками и летчиками (он имел звание еще и штурмана морской авиации), но и опыт преподавания в вузе. Как прирожденный лидер, он был строг, но справедлив к подчиненным.
#comm#Воровство и доносительство не переваривал органически. Рассказывал, как гардемарин Войнаровский, отпрыск знатной дворянской фамилии, однажды уличенный в мелком воровстве, по требованию гардемарин был немедленно отчислен.#/comm#
Доносительство, считал Борис Борисович, способно разобщить не только любой коллектив, но и разрушить целое государство. Он вспоминал:
"В 1988 году, при посещении Ужгорода, мне пришлось после лекции о писательнице Марко Вовчок (я работал над ее биографией), беседовать со студентами. Меня волновало и интересовало восприятие советской молодежью событий в стране. В частности я узнал, что в институте сохранилась система доносов, осуществляемых через назначаемых "информаторов".
Для иллюстрации о мерзости доносительства я поведал им историю, случившуюся в лейб-гвардии еще в прошлом веке. Капитан одного из полков, расквартированного в захолустном городке, доложил командиру, что знает о существовании тайного офицерского кружка, в который входил и его родной брат. Список он обещал передать только в том случае, если его переведут в гвардию.
Рапорт был передан по инстанции. Кружковцы были арестованы и осуждены, а капитан откомандирован в Петербург в лейб-гвардию. Однако случился конфуз: ни один из гвардейских полков не дал согласия на прием офицера-предателя в свою среду. В то время требовалось согласие офицерского состава полка на прием нового офицера, как на флоте - согласие кают-компании на назначение офицера в экипаж корабля..."
Доносительство и ябедничество во времена "Бе-Бе" презиралось. Поэтому характерен и другой рассказанный им эпизод о послереволюционном времени.
Граф Ламсдорф-Галаган был схвачен чекистами и приговорен к расстрелу. Когда его поставили к стенке, чекисты предъявили ему фотографию князя Н.Д. Жевахова и потребовали сообщить его местопребывание взамен на жизнь. На что граф заявил, что гвардия Его Императорского Величества предательства не допускает и смерти никогда не боялась. Такой ответ, произнесенный с достоинством и четко, ошеломил чекистов и... они отсрочили казнь.
"Бе-Бе" был уверен, что в студенческой среде необходимо соблюдать заповеди-законы товарищества, как и девиз: "Один за всех и все за одного".
#comm#А в 1929 году по Москве ходили трамваи с призывами "Помогайте лишать права голоса!". Это означало, что если вы донесете на соседа по квартире, как на "контру", то он будет лишен права голоса на выборах. А это повлечет лишение его продовольственной карточки, увольнение с работы, исключение из рабфака (если студент)... #/comm#
"Бе-Бе" хотел подготовить молодых людей к будущему. Мысли о будущем его обжигали...
Он говорил - для того, чтобы узнать, что такое человеческая жизнь, нужно перевидать много людей и пережить немало событий. Самых разных.
…В краткой аттестации по службе в царском флоте его отца, Бориса Михайловича (на фото с сыновьями Михаилом и Борисом) , инженера-механика флота, значилось: "Из студентов, атеист". В аттестации, данной в советское время (1922 год), при оставлении им военно-морской службы, характеристика его была так же кратка и категорична: "Из офицеров, ходит в церковь"…
Вероятно, он был верующим всегда, поскольку был из православной семьи. Когда посещение церковных служб в советском государстве стало считаться чуть ли не первым признаком "идейного врага", его вера обострилась. В церковь он стал ходить открыто, не таясь от властей и доносителей. Человек умный, много повидавший, он отлично понимал, что его сыновей Бориса и Михаила, дочерей Елизавету, Марию и Екатерину ждут впереди великие испытания и невзгоды, и вера в Бога давала надежду, что они выживут, давала душевную крепость...
В годы сталинских пятилеток он, как инженер, восхищался грандиозными стройками, но не один раз повторял в тесном семейном кругу: "Система-то хороша, но плохие исполнители!"
Просматривая историю, "Бе-Бе" обратил внимание, что она большей частью представляет собою зрелище весьма постыдное для человечества, поражает незначительным количеством идей рядом с колоссальным количеством разнообразных и невероятных фактов. Ведь с идеей построения коммунистического общества мы прожили 74 года. Хоть и в малой доле, но и "Бе-Бе" участвовал в создании этой истории и старался в меру сил не давать ей быть безобразной. Сам "Бе-Бе" арестовывался дважды – в 1918 году в Саратове и в 1927-м в Ленинграде...
Он любил людей и они платили ему тем же.
Однажды зимним январским днем я провожал "Бе-Бе" до метро. Было скользко, тротуар песком не посыпали и ходить по улице, особенно пожилым людям, в Москве было опасно. Шли не спеша. Сверху сыпал мелкий снежок. "Бе-Бе" был задумчив, тяжело вздыхал (ему уже тогда было за 90), размышлял вслух:
Мне надо успеть закончить воспоминания о своем времени и людях, которых повстречал на своем веку. Но вот беда, не знаю, как поступить? Я с удовольствием пишу о хороших людях, с которыми меня свела когда-то судьба! Однако, видел я и много мерзавцев, как быть с ними? Древние римляне придерживались мудрого правила: о мертвых - либо хорошо, либо ничего. Выходит, я должен о подлецах помалкивать?
Вопрос адресовался моей персоне и показался мне действительно забавным и неожиданным.
По-моему, надо писать, как было, то есть правду, пусть горькую.
Так-то, так, - вздохнул "Бе-Бе", - но и с правдой можно далеко утопать. Правда у каждого своя...
Неожиданно его лицо просветлело, и он оживился от пришедшей на ум новой мысли:
Между прочим, я давно заметил, люди власть имущие под выражением "сказать правду" всегда полагают, что это для них что-то совершенно ужасное! Это выдает их опасения, что их могут разоблачить или уличить во многих смертных грехах...
Через некоторое время "Бе-Бе" передал мне объемистую рукопись своих воспоминаний с просьбой внимательно прочесть, сделать поправки и выразить свое мнение. Рукопись я прочел, не отрываясь. Ничего "поправлять" не пришлось. Ни единого слова! Опечаток почти не было, мысли ясные, четкие, события описаны прекрасным русским языком, ныне почти забытом.
#comm#О себе "Бе-Бе" писал с подкупающей самоиронией и с большим чувством юмора. В целом же рукопись потрясала! Сила ее заключалась в том, что "Бе-Бе", умирая вместе с ХХ веком, знал, что он НЕ УНИЧТОЖАЕТСЯ, НЕ ИСЧЕЗАЕТ, что он всю жизнь старался совершенствоваться в добре и содействовал улучшению жизни...#/comm#
Под конец жизни он делился многими мыслями с друзьями и приятелями в "Клубе капитанов". "Бе-Бе", как я уже говорил, был прирожденным организатором и лидером. С ним всегда было интересно. Он не уставал повторять, что тихая жизнь без взволнованности - расслабляет.
"Клуб капитанов" был его последним организаторским всплеском.
Когда подкатило время, и по состоянию здоровья он уже не мог совершать плаванья на яхтах под парусом и вынужден был оставаться дома, в городе, он из друзей, приятелей и просто знакомых создал этот интереснейший клуб. Написал устав клуба, возродив многие старые традиции кают-компании.
В клуб принимали всех желающих, без различия пола, возраста и вероисповедания. Это было самое демократичное собрание людей, от которых требовалось одно - быть интересным человеком!
Для желающих вступить в "Клуб капитанов" необходимо было сдать своеобразный экзамен (тест): суметь рассказать что-то интересное из своих приключений, впечатлений от путешествий, странствий, показать слайды, сопровождая их комментарием, фотографии, рисунки и пр.
Сдавшему экзамен присваивалось звание "юнга" и разрешено было являться на собрания, участвовать в обсуждениях, быть активным и деятельным не только за столом, но и в делах клуба. После чего общим решением присваивалось звание "капитан".
На заседания "капитаны" являлись с женами, несли с собой для кают-кампании закуску, шампанское и торты, непременно собственного приготовления, а не покупные. "Бе-Бе" считал, что женщины должны показывать мужчинам свое кулинарное мастерство, которое женщин украшает почти так же, как и младенец на руках...
Перед застольем приготовляли грог из легких вин или коктейль. "Бе-Бе" садился во главе стола на "адмиральское место" и, открывая очередное заседание, держал речь, усыпанную элегантными остротами и одновременно торжественную, выдержанную в духе петровских указов. Присутствующим запрещалось быть "скучным снобом" и подлежало следовать девизу: "Один за всех и все за одного!"
В "Клуб капитанов" отовсюду стекались люди необыкновенные: путешественники, ученые, врачи, писатели, моряки, летчики... Каждый имел свой неповторимый колорит, а точнее КОСМОС. Например, Любовь Ковалевская - поэтесса и журналист. За два месяца до аварии на Чернобыльской АЭС она побывала там, после чего в газете "Ленинградская правда" опубликовала большую статью, где рассказала о вопиющих нарушениях строгих инструкций по эксплуатации атомной электростанции со стороны должностных лиц (начиная с директора АЭС, не знавшего даже элементарных законов физики) и предсказала возможную катастрофу (специалисты АЭС рассказали ей, что работы на реакторе ведутся с отключенной системой аварийного прекращении термоядерной реакции в энергоблоке).
За "разглашение государственных секретов" Ковалевскую стали таскать по инстанциям.
Когда 4-й энергоблок АЭС взлетел на воздух, перепуганная власть сразу признала критику своевременной, а смелая журналистка помчалась в Чернобыль и ежедневно передавала потрясающие репортажи о героизме пожарных с места катастрофы.
Капитанами клуба были ученый ЦАГИ Николай Занегин, приезжавший на заседания клуба из города Жуковского и известный писатель-маринист Н.А. Черкашин. Последний однажды рассказал о своих исследованиях причины гибели линкора "Новороссийск".
#comm#Его рассказ, со слов очевидцев трагедии, потряс слушателей и особенно "Бе-Бе", который, будучи моряком и ревностным хранителем традиций русского флота, особенно переживал это печальное событие, как и гибель атомной подводной лодки "Комсомолец" в Северном море. Причина была одна - некомпетентность начальства.#/comm#
Нет глупцов более несносных, чем те, которые не вовсе лишены ума, - сокрушался Борис Борисович, цитируя афоризм Ларошфуко. - Еще мой отец в августе 19ЗЗ года пытался доказать специальной комиссии, обсуждавшей вопрос годности ледокола "Челюскин" к длительному плаванию в Арктике, что, к сожалению, судно малопригодно для суровых условий Заполярья, поскольку имеет слабость корпуса, который может не выдержать сжатия во льдах. Кроме того, "Челюскин" имел слабые паровые котлы, которые при преодолении тяжелых льдов не позволяли увеличивать давление пара до оптимальной величины.
Вскоре, как известно, "Челюскин" был раздавлен льдами.
Дураки и бюрократы - сила страшная, но их можно распознать по классическим приметам: они сердятся без причины, говорят без нужды, вмешиваются в то, что вовсе их не касается, и не умеют различить, кто желает им добра, а кто зла. Моего отца тогда же, без объяснения причин, вычеркнули из списка и в последующей эпопее он не участвовал.
Заканчивая повествование о последнем гардемарине Борисе Борисовиче Лобач-Жученко, следует сказать, что его отец по возвращении с Соловков преподавал в Московском машиностроительном институте им. Баумана, издал десятки учебников и научных статей, выступал по радио, объездил с лекциями добрую половину Европейской части России. Умер он 28 мая 1938 года.
"Бе-Бе" с присущей ему энергией также много трудился во флоте и на ниве просвещения. Им написаны превосходные книги о своей бабке, классике украинской литературы Mapии Александровне Маркович, известной под псевдонимом Марко Bовчок, не считая многочисленных статей в журналах и сборниках о парусном спорте и глав из своих воспоминаний.
До самого последнего дня он был деятелен, его мозг не давал сбоев, и он, отлично понимая, что его долгая жизнь близится к естественному концу, как истинный философ, с удовлетворением говорил, что ему есть что завещать своим потомкам и друзьям...
В бытность мою гардемарином я имел свой личный номер 42, считал его счастливым и запомнил на всю жизнь. И если мне на том свете придется предстать перед апостолом Петром, я, наверное, закончу свой рапорт словами: "Докладывал новопреставленный Борис Лобач-Жученко, номер сорок два!"
Специально для Столетия
ГАРДЕМАРИН
Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.
Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив – солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.
На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья – прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.
Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распустившихся листьев.
Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.
Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.
Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.
Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.
Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны.
Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра – Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид на Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.
Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампочки. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.
Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места – Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона . Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада» , из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.
Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.
Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.
Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.
– Мальчик, – спросил он насмешливо, – почему вы тащились за мной на буксире?
Я покраснел и ничего не ответил.
– Все ясно: он мечтает быть моряком, – догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.
Гардемарин положил мне на плечо худую руку:
– Дойдем до Крещатика.
Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.
На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.
Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:
– Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.
Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.
После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было недостаточно.
Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.
Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.
Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.
Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они ни заходили. Они посещали даже остров Тристан д’Акунью.
Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомин», а где «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.
Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.
Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».
– Он дойдет бог знает до чего со своими играми, – сказала однажды мама. – Как бы все это не кончилось менингитом.
Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.
Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.
Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.
После выхода на экраны в 1988 году фильма режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!» у многих возникло убеждение, что красивое иностранное слово, стоявшее в названии, означает примерно то же, что и мушкетер. То есть гардемарины — это лихие юные красавцы, которые постоянно дерутся на шпагах, красиво скачут на лошадях и своим активным участием в дворцовых интригах влияют на ход истории. Снятые в дальнейшем фильмы о продолжении их похождений только подтверждали это мнение. Но у этого гордого слова есть и своя история, которая не нуждается в украшательстве силами исторических беллетристов.
Гардемарины — это кто?
Garde de marine ("морская охрана") — это которое было учреждено основателем российского флота Петром Великим взамен наименования «навигатор» и заимствовано им из французского языка. Это случилось в 1716 году при переводе классов, готовивших будущих флотоводцев из Московской Школы математических и навигацких наук, существовавшей около 15 лет, в новую столицу. В Санкт-Петербурге на их основе была учреждена Морская академия.
По мысли Петра, это звание было промежуточным: гардемаринами становились те, кто успешно усвоил необходимую теорию, но в силу отсутствия практических навыков и опыта не готов к полноценной службе в качестве морского офицера. Звание присваивалось выпускникам Академии перед выпуском их во флот, где они получали практические навыки в морском деле и в командовании личным составом флотских экипажей. В зависимости от выслуги лет, они делились на старших и младших.
«В бою — как солдаты, в ходу — как матросы»
Штат первых гардемаринов в молодом российском флоте был определен в количестве 300 человек. Нося особую форму — мундир они получали содержание, равное по сумме довольствию солдат в гвардии, что также отличало их от простых матросов. Но в службе они, согласно Уставу, использовались в качестве именно низших чинов, имея сходные служебные обязанности.

Отношение к носителям такого звания со стороны экипажа было сложным. Они не могли понять: гардемарины — это кто? Они постигают практику морской службы с самых низов, драят палубу и взбираются на мачты, ставя паруса, вместе с рядовыми матросами. При этом они должны были проходить ежедневное обучение у корабельных офицеров штурманскому делу, управлению судном, артиллерийской стрельбе и заниматься строевой подготовкой с мушкетом. Они обязаны были регулярно вести «журнал путеплавания», по которому велся контроль за их подготовкой. При усердном отношении гардемарина к службе и к практическим занятиям командирами выдавалась «одобрительная аттестация», которая являлась допуском к экзамену на мичманов. Другими словами, гардемарины — это, что называется, ни рыба ни мясо, и, пока они не проходили итоговое испытание, не могли считаться полноценными морскими офицерами.
Гардемаринская рота
После смерти Петра дела его любимого детища — флота Российского — стали постепенно приходить в упадок. Были уменьшены в количестве и гардемарины. Это привело к тому, что они были сведены в одну роту при Морской академии, причем её несколько раз переводили из Петербурга в Кронштадт и обратно. Зимой гардемарины учились в академии, летом проходили практику на судах, но чаще из-за малого количества боевых кораблей служили при портах на унтер-офицерских (сержантских) должностях. Теперь гардемарин допускался к экзамену на получение мичманского звания не ранее чем через 7 лет службы, только после участия в 3 кампаниях и лишь при наличии офицерской вакансии.
В 1752 году Морская академия и гардемаринская рота были упразднены и вошли в состав учрежденного Морского шляхетного кадетского корпуса. Теперь будущие учились три года. Елизаветинские гардемарины — это курсанты выпускного курса, а те, кто учился на первых двух, звались кадетами. Позднее гардемаринами стали именовать учащихся всех специальных — инженерных, артиллерийских и т. д. — морских курсов. Строевое звание гардемарина во флоте было отменено.
Реформы системы подготовки морских офицеров
Такое положение сохранялось почти столетие. К середине XIX века командованию Российского флота стало ясно, что давать офицерское звание молодому человеку сразу после школьной скамьи неразумно. Сначала на Черноморском флоте, в Николаеве, была создана отдельная рота гардемаринов, а в 1860 году вновь введено строевое звание. Тогдашние гардемарины — это своеобразное возвращение к петровским истокам. Целью их учреждения на флоте была необходимость дать молодым людям — выпускникам Морского кадетского корпуса и Николаевской гардемаринской роты — служебную и морскую практику.
По своему статусу флотские гардемарины соответствовали армейским прапорщикам. Они носили офицерскую форму и получали особое денежное содержание. После двух лет службы, по рекомендации командования, они допускались к практическому экзамену на мичманское звание.

Так продолжалось до 1882 года, когда звание гардемаринов было опять возвращено учащимся старшего курса Морского корпуса, которые набирались практики в дальнем морском походе на специальном судне. По окончании его учащиеся проходили итоговое испытание и становились мичманами. Впоследствии звание гардемарина было дано и ученикам средних и специальных курсов с приставкой «младший».
В 1906 году, после поражения России в войне с Японией, непосредственное присвоение звания молодым выпускникам сменилось их выпуском во флот в качестве корабельных гардемаринов и их годичным загранплаванием на боевых судах. Ежегодно в Средиземное море уходил специально сформированный учебный отряд из нескольких судов. Экзамен на младшего морского офицера происходил по возвращении из такого похода.
В советское время звание гардемарина было упразднено.
Современное положение
Сегодняшние гардемарины — что это такое? Чаще всего так именуют учащихся специальных образовательных учреждений типа столичной Первой морской кадетской школы-интерната или воспитанников Но происходит это, скорее, по традиции и неофициально.

Не так давно появились сведения о подготовке к съёмке очередного сиквела поэтому можно быть уверенным, что это гордое слово будет жить в нашем языке и дальше.